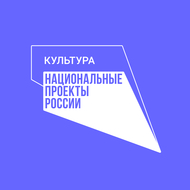Скорочкина Ольга. Пещера волшебника // ПТЖ. 2004. № 37
Все фотографии ()
Он сочинял
поэтический театр, театр чудесных превращений, фантастических смещений —
в сторону смешного, уродливого, ужасного, невероятного, сказочного, —
поэтому всегда казался подозрительным диссидентом тем, кто стоял в дозоре.
Это потом его путь в искусстве стал выглядеть праздничным и успешным.
Это потом акимовской легендой, словно заклятием, пугали всех приближавшихся
к театру Комедии режиссеров. Его легенда действительно «вросла» в это
здание, где несколько десятилетий подряд он ставил свои блистательные,
стильные, ироничные и живописные спектакли. Между тем блеск, живопись и стиль
стоили ему немалой крови: с ним боролись, лишали театра, обзывали
космополитом, его призывали к ответу за «рецидивы формализма».
А он если и был диссидентом — так исключительно
эстетическим. Акимов, ученик А. Яковлева и М. Добужинского,
увлеченный в молодости художественной группой «Мир искусства», влюбленный
в мастеров раннего Ренессанса Брейгеля и Гольбейна, — конечно,
смазывал краски соцреалистических буден в своих живописных композициях,
которые всегда были — тоской по «обыкновенному чуду», по празднику,
по другой жизни…
«Другая» жизнь начиналась на сцене театра Комедии с живописи: акимовскую манеру оформлять сцену нельзя было спутать ни с какой другой. Он знал секреты цвета, композиции, перспективы, сценического костюма, как никто умел пользоваться светом, вещами, бутафорией. Попросту говоря, он владел формой спектакля — формализм ему был присущ без всяких рецидивов. Неудобная сцена театра Комедии превращалась у него в пластичное, полное чудесных возможностей пространство, и это пространство могло волшебно увеличиваться, сиять, фантастически трансформироваться в его режиссерских руках. Потом, после него многие режиссеры будут спотыкаться в этом пространстве и ругать его на чем свет стоит — маленькое, узкое, актерам не разойтись. Сцена и вправду неглубока. Но он умел «обмануть» ее: при Акимове она казалась большой и удобной и для королевских замков, и для средневековых итальянских улочек, и для старинных английских парков… Если ему нужна была Испания эпохи Лопе де Веги, он сочинял таинственное свидание влюбленных в ночной тьме: они не видели друг друга, а фосфоресцирующие маски, фрукты, вино, льющееся в бокалы, — все это создавало впечатление чудесной романтической загадки… Акимова часто ругали за избыточность этой «другой жизни», за слишком яркую живописность. Сам он отвечал на эти упреки: «Выяснилось, что я хронически задавливаю режиссера, из строк рецензий вставала моя зловещая фигура, вытирающая руки от режиссерской крови. Тогда я сам стал ставить спектакли. Предполагалось, что раз я сам для себя делаю декорации, то уж себе-то я не подгажу…»
История акимовского театра Комедии — это история сценических романов режиссера с Шекспиром, Лопе де Вегой, Шериданом, Эдуардо Де Филиппо, Пристли. И, разумеется, с Евгением Шварцем. Акимов все время был как бы «на подозрении», от него то и дело ждали очередного «опасного поворота» (эту пьесу Пристли он ставил перед войной). Но, повторим, его инакомыслие носило исключительно эстетический характер. Художник, проживший большую часть жизни в тоталитарные советские времена, публицистической борьбой с «тенями» и «драконами» не интересовался. Акимов с юности раз и навсегда эмигрировал на театральную сцену, где искал «чудесный сплав» живописи и сценической игры и находил его в только ему одному известных соотношениях. Он создал блистательный образец стильного во всех отношениях театра в бесстильные времена. Вот и вся опасность его поворота. В шестидесятые годы его театр опять оказался как бы слегка на обочине: он не примеривал на себя ни одну из входящих в моду одежек — его не интересовала ни «размытость» сценического импрессионизма, ни летучая и звонкая студийность московской театральной весны, ни публицистика, ни разгадки поэтических метафор. На новых ветрах бывший «диссидент» выглядел пленительно-старомодным — с его приверженностью к законченной форме, мастерской отделке деталей, артистическому шарму, — на все это смотрели как на причуды антикварного старьевщика. Как на старинные шляпки с вуалью, хранящиеся на дне дореволюционного сундука. Елена Владимировна Юнгер в своей книге описывает мастерскую Акимова. Она называлась «Пещера волшебника» — с ее картинами и всякими антикварными вещичками, зеркалами, трубками, которые в его руках претерпевали чудесные превращения и из бытовых превращались в поэтические. Но «пещерой волшебника» можно назвать и тот образ театра, который он сочинял и строил в течение жизни. В фойе и сегодня висит его знаменитый черно-белый фотопортрет с линзой: глаз — хитрющий, улыбка — образец стальной иронии, но линза выглядит как инструмент волшебника, какого-нибудь шекспировского Просперо, пытающегося пересоздать видимую картину мира…
Кроме того, история акимовского театра — это история театрального романа Мастера с труппой. Акимовская труппа — для театралов нескольких поколений это означало знак высшего театрального качества, особый игровой градус, блистательное чувство театральности, эксцентризма, артистической выправки, грациозности. В самые безъязыкие, вялые, непраздничные времена, когда его артисты выходили на сцену, от них исходило особое сияние — праздника, красоты, особого сценического шика — в пластике, костюме, детальной отделке роли, во всем… Подобно коллекционеру, он собирал в труппе самых элегантных, остроумных, «особенных» актеров и актрис. Елена Юнгер, Ирина Гошева, Павел Суханов, Эраст Гарин, Лев Колесов, Александр Бениаминов, Елизавета Уварова, Ирина Зарубина, Глеб Флоринский, Лидия Сухаревская, Борис Тенин, позже — Борис Улитин, Геннадий Воропаев, Вера Карпова, Ольга Антонова. Они приходили и уходили, но стиль акимовского артиста — это оставалось понятием постоянным. В понятие стиля у него входили красота и шарм — он знал им цену, и его артисты тоже. Когда молодой Геннадий Воропаев появлялся на сцене в «Дон Жуане», зал замирал от восторга, так он был неотразим. Зрительницы после войны стремились кроить платья и носить прически «под Елену Юнгер»… Когда в театр пришла показываться молодая Ольга Антонова, Акимов немедленно взял ее в труппу только на том основании, что она напомнила ему юную Марию Бабанову… Акимов считал выделенность из уличной толпы даром Божьим и, делая на нее (в том числе на нее) ставку, не проигрывал. Жизнь могла опроститься и подурнеть — такое с ней то и дело случалось, но только не здесь, не на сцене этого театра, мощно охраняемого его чувством художника.
От его эпохи остались легенды: до сих пор живы столики, которые он лично «сочинял» для артистических уборных. И до сих пор живо предание, согласно которому в гримуборной Елены Юнгер даже зимой стояло дерево белой сирени. Наряду со знаменитыми афишами-плакатами и цветными витражами, сияющими зеркалами в зрительском фойе — видимыми следами легенды, это дерево белой сирени в актерской гримерке осталось как невидимый знак ушедшей театральной поэзии, художественной ауры театра.
Театр Комедии пережил великую театральную эпоху, связанную с именем его создателя. Он пережил горькие времена «безвременья», когда им правили «тени» либо ушлые алхимики, добывающие вещество театра искусственным путем. Но в его летописях также хранятся, пусть недолгие, романы с режиссерами, которые оставляли в его истории добрую сценическую память.
На этой сцене ставили спектакли Григорий Козинцев, Александр Музиль, Георгий Товстоногов.
В начале 1970-х театр возглавлял Вадим Голиков. Режиссера с философским университетским образованием упрекали в отсутствии игрового темперамента. Но в «Романтиках» Э. Ростана эта самая игровая энергия счастливо била через край рампы! Артисты Сергей Дрейден и Вячеслав Захаров доводили зал до полной смеховой погибели. Это был гомерически смешной спектакль, легкий и воздушный, как кружева на костюмах его героев, как стихи Эдмона Ростана в переводе старой-доброй Т. Щепкиной-Куперник… «Село Степанчиково» и «Горячее сердце» остались одними из самых живых, «горячих» страниц ленин?градской театральной истории шестидесятых — начала семидесятых годов. Стоит перелистать прессу тех лет — ни о чем так много, дискуссионно и страстно не писали, как об этих премьерах Вадима Голикова.
Петр Фоменко, возглавлявший театр Комедии в конце 70-х - начале 80-х, тоже здесь не прижился. Старая афиша мольеровского «Мизантропа» (художник Игорь Иванов тогда возобновил акимовскую традицию театрального плаката) — словно его режиссерский автопортрет: человек в отчаянье обхватил голову руками на фоне золоченой клетки и роскошного оперенья павлина. «Золоченая клетка» Комедии была ?освоена Петром Фоменко замечательно, но — ненадолго.
Эта сцена давала приют молодым и бездомным режиссерам. Кама Гинкас, Лев Додин, Михаил Левитин ставили здесь свои спектакли, когда у них еще не было собственных театров. И эти спектакли вносили в театральную жизнь Ленинграда явный призвук эстетического инакомыслия, дразнили тогдашних «по?граничников», в чем явно, хоть и не нарочно, наследовали Акимову. В театре Комедии вечно что-нибудь да происходило.
При этом жизнь в нем развивалась как-то обрывочно, калейдоскопично для репертуарного театра-дома. О том, что он — дом, театр вспоминал раз в году, на капустниках, заведенных еще при Акимове.
В середине девяностых театр возглавила Татьяна Казакова. После постановок на сцене «Балтийского дома» и театра Ленсовета она казалась самой подходящей фигурой: открытая театральность, игровая энергия и неженская дисциплина сценической формы виделись залогом успешного театрального романа.
«В театр пришли ?трудные люди"», — писала пресса, обыгрывая название премьерного спектакля. Казакова и не «подписывалась» на легкий курортный роман, приятный и необременительный во всех отношениях. Она пришла в «этот милый старый дом» всерьез и надолго.
Она также не стала подписывать деклараций о преемственности традиций и устанавливать знамя под портретом Акимова. Ее жест памяти Мастера был абсолютно художественным: к его юбилею, совпавшему со сценическим юбилеем Елены Юнгер, она поставила маленький шедевр, прелестный десятиминутный спектакль, воскрешающий встречу Акимова и Юнгер полувековой давности. Юнгер в роскошном малахитовом платье сидела в тот вечер на сцене и смотрела на себя — смешную куклу с рыжими косицами, беспечную и курносую.
Эту смешную куклу-девчонку увидел Художник и сочинил для нее Театр — вот и весь мини-спектакль, полный изящного юмора и нежной ностальгии по ушедшей эпохе. Он был показан всего один раз, на традиционном апрельском капустнике. Курносую куклу-двойника Елена Владимировна Юнгер забрала домой.
Казакова занялась строительством собственного театра. Она позвала в помощники лучших сценографов Петербурга — Эмиля Капелюша, Александра Орлова, они выстроили на сцене декорации удивительной красоты и подлинной театральной поэзии, вернули сцене театра Комедии живописность и объем. Как когда-то Акимов, они вновь «обманули» ее пространство, дав ему перспективу, сделав волшебным, дышащим, играющим… По сцене катались румяные райские яблоки, падавшие с высоты («Влюбленные» К. Гольдони), таинственно и изумрудно зеленел фантастической красоты староанглийский парк («Деревенская жена» У. Уичерли), и падал в темноте мокрый питерский снег («Яблочный вор» К. Драгунской, сценография Стефании Граурогкайте)…
Она позвала композитора Игоря Рогалева, и его музыка замечательно угадывала и держала ритм и нерв ее постановок.
Сама она так определяла этическую и эстетическую сущность жанра, в котором работает ее театр: «Зритель рифмует ожидания, связанные с комедией, с ожиданиями театральности как праздника, как выхода из жизни в другое измерение, ему хочется, чтобы, когда откроется занавес, он увидел яркий свет, услышал музыку, увидел красивых мужчин, женщин, мистику, фантазию — все то, чего ему так не хватает в жизни… Я считаю, что комедия дает человеку колоссальный добор дыхания».
В этом сезоне в двух последних премьерах — «Тени» и «Свадьбе Кречинского» — Казакова будто поменяла игральную колоду. Словно северный ветер подул и тучи сгустились над сценой. Яркий свет, мистика, музыка, фантазия — карты выпадали вроде бы те же… Но движение спектаклей стало раскручиваться совсем в другую сторону. Это видно даже по работе осветительского цеха. В «Трудных людях», которыми она дебютировала здесь, черно-белая, призрачная мгла к финалу рассеивалась и сцену заливал золотистый свет. Теперь словно невидимый механик поменял приборы: они в двух последних премьерах работают на явное исчезновение света. От условного сказочного королевства Е. Шварца с оранжево-апельсиновой луной на синем небосклоне — к зловещему карнавалу и «кровавой свадьбе», где у новобрачного летит с плеч голова, словно в триллере или дурном сне. А луна превращается в неоновый фонарь с мертво-болезненным холодным светом. От уюта и огней хорошо поставленного, сверкающего люстрами благородного дома Муромских — ?к ошеломительному финальному скандалу в присутствии полиции и понятых. Очевидно, что режиссер ищет новый вектор театрального движения, пробует новые краски, ищет новые темы. Не все же райским яблокам кататься по сцене, как это ни пленительно, не все же зеленеть английским садам и падать божественному, равно как и беспроигрышному, театральному снегу из-под колосников…
Казакова не из тех, кого могло бы парализовать ощущение охранной миссии, когда она бралась за святая святых, самую звонкую из легенд, оставленных Акимовым. Тем более что многие десятилетия до нее эта охранная миссия благополучно проваливалась. Не потому, что были плохи первоначальные чертежи. Они давно стали частью истории театра. Не потому, что новые артисты позволяли себе халтурить в старых декорациях — никто и не халтурил. Напротив, Тень играли в разное время такие замечательные артисты, как Виктор Гвоздицкий или рано ушедший из жизни Николай Павлов. Оба играли изящно, сложно, гротескно, с ощущением инфернальной перспективы, идущей от Шамиссо.
Но по большому счету эти актерские работы ничего не решали. И не могли решить. Все предыдущие десятилетия спектакль обновляли, реставрировали, вливали юное вино в старые мехи и т. п. Портные бесконечно перелицовывали костюмы, артисты — интонации, бутафоры обновляли реквизит. Но это была та же история, что с «Принцессой Турандот» в Вахтанговском театре, из десятилетия в десятилетие усердно прихрамывающей под знаменитый вахтанговский вальс и безнадежно утратившей в дежурных шутках свою гениальную сердцевину. Куда уж честнее было бы демонстрировать зрителю макеты, фотографии, лучше и точнее все равно не будет. (Вот и в зрительском фойе театра Комедии перед началом спектакля каждый может посетить бережно сохраняемый театральный музей — настолько бережно, что лет тридцать назад молодые артисты забаррикадировали в этом музее начальство во время банкета, поступок был хулиганский, но мизансценически талантливый. Начальство имело возможность прикоснуться к архивам.)
Ничто так не разоряет легенду, как долгожительство спектакля ценой бесконечных реанимаций. Спектакль, от сезона к сезону проходивший процедуру омоложения, был все равно только лишь бледной копией легендарной «Тени».
Казакова поставила свою «Тень» без оглядок на легенду. И какой смысл был оглядываться, если нынешнее молодое поколение зрителей не может помнить не то что предвоенный спектакль Акимова — но вряд ли видело даже популярный фильм Надежды Кошеверовой 70-х годов с Олегом Далем в ролях Ученого и Тени.
Охранительная миссия состояла не в том, чтобы «повторить по чертежам», но в том, чтобы в колеблющейся системе современных культурных ценностей не потерять те, которые Акимов с прекраснодушной стойкостью почитал за базовые. Воля к театральности, тоска по большому стилю, тщательная выделка, артистическая выправка и гротескная заостренность рисунка, чувство сценического ансамбля, ритма, пластическая проработанность каждого образа и массовых сцен — именно на эти козыри и поставила Казакова.
В этом же сезоне пьеса Шварца была представлена Юрием Ереминым в московском РАМТе. Его первый и главный, судя по описаниям московских критиков, жест: он снял со сказочной истории волшебное покрывало, даже в программке обозначив — «почти реальная история». У Казаковой «реальные истории» не имеют реальной территории, даже если она ставит новую драму, к примеру, Ксении Драгунской. В этом смысле она, скорее, непрограммно наследует Акимову, уводя героев в «смещенное», фантастическое пространство, в «пещеру волшебника», подальше от прямого света. Потому что при дневном свете — что делать сегодня с чуть назидательной «тайнописью» Шварца, которая была актуальна в 1940 году, но не в 2004-м? Что делать со всеми его иносказаниями, если все «тени» и «драконы» сегодня разоблачены, все в нашем королевстве про них известно и они надежно заняли руководящие посты и позиции.
Казакову в этой истории привлекал вневременной смысл философской притчи, восходящий к Андерсену и Шамиссо, а также — совершенно очевидно — сценическая интерпретация ее мистических возможностей. Она доверилась жанру, первой реплике Ученого, потерявшего очки: «В сумерках моя комната кажется не такою, как обычно», — и поставила сказочное приключение с присущими этому жанру родовыми театральными чертами.
Старая сказка сыграна в декорациях Эмиля Капелюша (художники по свету Евгений Ганзбург и Глеб Фильштинский) с центральной «концептуальной» кон?струкцией: посреди сцены — зловещая вертикаль, по которой карабкается Тень, трон и плаха остроумно соединены в одной точке. Восхождение к власти со смертельной перспективой.
Тьма-тьмущая, воздух словно выкачан, и будто в вакууме движутся маскарадные фигуры. Никакого тебе спасительного сказочного уюта, все происходит будто в страшном сне, приснившемся Ученому. Только из сна этого не вырваться, из него «не проснуться», и надо пройти еще раз эту старинную историю про человека и его тень. В этом королевстве принято улыбаться, всегда, на всякий случай, даже если убивают, и виртуозной красоты массовка, словно образцовая дивизия, брошена в бой. Художница С. Граурогкайте нарядила артистов в потрясающие костюмы. Парча, капрон, шелка, струящиеся газовые шарфы и невероятных расцветок перья — зловещий и блистательный истеблишмент, словно светский репортаж на страницах дорогого глянцевого журнала. Все отлично знают, как улыбнуться, как промолчать, какую принять позу. Бал манекенов, рассчитанных жестов, острот, улыбок… Королева бала — острая и терпкая Юлия Джули (Наталья Андреева), в ней роскошь и блеск светского ритуала доведены до ослепительной, гомерической крайности. Очень дорогой, но совершенно мертвый карнавал. Обманный праздник. Самый живой на этом застывшем от напряжения празднике жизни — глубокий инвалид, министр финансов (Михаил Светин срывает в этой роли заслуженный успех). Он давно уже находится в параличе, но то и дело дает горячие команды подданным: придайте мне позу непринужденной беседы… крайнего изумления… топните ногой… В принципе, режиссер всем на этом дьявольском карнавале «придала позы» — выстроила мизансцены так, словно разыграла шахматную партию.
Только два человека мечутся по клеточкам этого королевства неприкаянно и неумело. Им ни за что на свете не вписаться в стройные общие мизансцены: «ах, эти честные и наивные люди!». Ученый (Денис Зайцев) и Аннунциата (Татьяна Воротникова), тоненькая девушка с преданными «собачьими» глазами, которые светятся в любой тьме. Но им эту тьму не одолеть никакими правдами, а неправдами они одолевать не умеют. Как бы Ученый ни кричал: «Тень, знай свое место! И вот я победил!. Да неужели же я говорю в пустыне?!.» — его никто не слышит. Слова тонут, как в вате. Да, он говорит в пустыне, и массовка эту «оглохшую» пустыню играет.
Принцесса в исполнении Елены Руфановой — балетная фигурка, легкое светлое платье, золотые волосы, серебряный голос с капризно-ломкими интонациями. В ней есть печальная обреченность. Словно девочка-балерина с картин Дега или прилежная ученица Вагановского училища… Она появляется в призрачном лунном сиянии, словно мираж. В ней что-то нездешнее, счастье ей не грозит с первой секунды, это мы понимаем. Поэтому во втором акте ее переодевают в эффектное кроваво-красное платье: в таком счастливые принцессы не идут к венцу, но она и не счастливая. Эту принцессу страшно подставили. И не только придворные со своими коварными интригами, не давшие ей разглядеть единственного честного человека, забредшего в их государство. Ее «подставила» и режиссер, дав ей в партнеры ту Тень, которую мы видим…
Дорогая, ручной выделки ткань спектакля начинает рваться, как только появляется Тень (Сергей Русскин). Центральная роль попала до обидного не в те руки. Понятно, что в сегодняшней труппе театра Комедии нет Олега Даля (его нет ни в какой труппе на свете), нет Виктора Гвоздицкого. Но чтобы совершить путь дьявольского обмана и восхождения к трону, невозможно играть на одной-единственной струне, как это делает С. Русскин: отвратительного уродства и только. Тень ведь обольщает Принцессу, рассказывая ей тайное тайных — ее сны. В ее зловещем восхождении должно быть что-то чарующее, неостановимое, чему невозможно сопротивляться. Образ ведь должен на чем-то держаться — пусть на обманном, гротескном, но — обаянии. Эта же Тень — удивительно непластична, мечется по сцене, пытаясь запугать, словно кикимора болотная на детском халтурном утреннике. Бедная Принцесса, собравшаяся под венец с таким суженым, больше напоминает героиню совсем другой сказки Андерсена — Дюймовочку, вышедшую с горя замуж за старого слепого крота. Тень похожа на бритоголового братка-криминала с бычьей шеей и выпученными глазами, который, кажется, не сходя с места «замочит» всех.
Увы, в этом изящном спектакле с его инфернальной, тревожной красотой Тень выглядит пришельцем из другой истории.
«Вы видите, Тень заняла престол?!» Видим. Заняла. И еще займет неоднократно. И честным наивным людям остается один выход — бежать отсюда, как бегут в финале Ученый и Аннунциата. Они сбегают из ?этого королевства, с этой сцены, как будто где-то есть другой мир, который их примет. Шварц все-таки добился победы добра над злом, Тень изгнана, а ученый морально торжествует в финале. Не то — в спектакле. Трогательный идеализм простых душ, верящих, что от их возгласа «в путь!» что-то зависит, как будто где-то есть другое королевство или другой, более милосерд?ный глобус, вызывает гораздо больше тревоги, чем радости. Прощаясь с ними, режиссер не подсвечивает им «светлый путь»: никаких иллюзий у нее нет. Какая правда? Какая победа? Они бегут из манекенного королевства в темную, пугающую неизвестность… В этом печальная безнадежность старой сказки, как ее понимает Татьяна Казакова.
В «Свадьбе Кречинского» другая «тень» почти достигла престола и принцессы - было рукой подать, но — сорвалось. Всему виной — какой-то фальшивый бриллиант.
Как азартно закрутил Михаил Васильич Кречинский (Михаил Разумовский) свою свадебную карусель, как все чудесно катилось, казалось бы, к празднику! Глупый тур вальса — и юная невеста с огромным приданым — в твоих руках! Все было готово к свадьбе, ко второму акту диагональ сцены эффектно пересек тюлевый занавес, за ним — белоснежный свадебный стол, и так празднично сверкают фужеры, и пенится шампанское. Уютные диваны, кресла, колокольчик, в который звонит бестолковый слуга Тишка. Почтенное семейство, приличный дом, в котором роли разошлись, как амплуа в старом дорежиссерском театре. Благородный отец Муромский (Эрнест Романов) с бархатным голосом и близкой слезой в светлых глазах, как и подобает благородным отцам. Героиня — Лидочка (увы, актриса Марина Засухина на героиню никак не тянет, в лучшем случае — скромная инженю, и тоже с близкой слезой в светлых глазах). Зато тетка Атуева — настоящая генеральша этого дома, хитроумный его главнокомандующий, настоящая комическая старуха, даром что молодящаяся. (Когда говорят, что в современном театре перевелись комические старухи, думаешь: вот Ирина Цветкова, хоть совсем еще средних лет артистка, уверенно занимает эту игровую нишу, то ли еще будет!)
Но подлинная пружина спектакля все-таки держится на контрастном дуэте двух авантюристов, взорвавших уют почтенного дома. Один блистательный, настоящий фрачный герой, на нем даже домашний халат сидит как тога на императоре. За таким не то чтобы на глупый тур вальса — в Сибирь девушка помчится, забыв про все на свете! У Михаила Разумовского сумасшедший, злой огонек в глазах, ну чистый Джек Николсон! Новорусский дьявол, легко и играючи срывающий банк! Владелец «теневых» капиталов, помещик без имения, азартный игрок… И — оборванный, заплеванный, латаный-перелатаный, битый-перебитый («третья трепка за сутки!») маленький человек Расплюев (Михаил Светин). Шантрапа, взлохмаченный мальчишка до старости лет, карманник, шельма, меченая богом и артистическим даром, который в его суровом ремесле — тоже дело не последнее. Казалось бы — ну какие они подельники-коллеги? А между тем — замечательная игровая связка, держащая в напряжении не только дом бедных Муромских, но и весь зрительный зал.
Но, как предписано Сухово-Кобылиным, полиция в финале все-таки ворвется в дом и скучный правдолюбец Нелькин выведет-таки аферистов на чистую воду. Полиция стучится так, будто это гремит гром небесный. Будто судьба ломится в двери, а не пристав. «Судьба, за что гонишь?» Ложь! Скандал! Позор! И весь шум — из-за крошечного бриллианта.
Какой прекраснодушной кажется сегодня пьеса! Словно памятник прошлогоднему снегу, который в России больше никогда, ни при каких погодах не выпадет, такой он был сверкающей белизны! Злодей посрамлен, бедная девушка в обмороке. Совсем скоро эту пьесу невозможно будет ставить, ее просто никто не поймет. Господи, с чего столько шума? Отчего с таким прон?зительным драматизмом разыгрывается история о подмененном бриллианте?
Кажется, что Кречинский поторопился родиться, ему достался явно не тот век. Сегодня он сделал бы замечательную карьеру — скупил бы все бриллианты, в придачу яйца Фаберже, и царские короны, и футбольные клубы, и английские поместья, и независимое телевидение, и испанские набережные… И никто его не объявит в розыск, и полицейские всего мира не сбегутся арестовывать, и пресса сообщит о его покупках как о чем-то само собой разумеющемся, и никакой поруганной чести, позора или там грома небесного… Гром гремит там, где живут по человеческим законам. То есть на территории русской классики.
Разумеется, последний абзац не имеет к спектаклю отношения. Он имеет отношение к той жизни, которая происходит за пределами «пещеры волшебника». Эта жизнь с ее «почти реальными историями» ставит русскую классическую пьесу «Свадьба Кречинского» в положение чуть ли не хрустальной рождественской сказки. А режиссер театра Комедии Татьяна Казакова — при всем ее нешуточном чувстве сценического драматизма — выглядит последним театральным сочинителем сказок.
Между тем ее театр не обманывает зрительских надежд. Режиссер оправдывает «ожидания театральности как праздника, как выхода из жизни в другое измерение».
Июнь 2004 г.
«Другая» жизнь начиналась на сцене театра Комедии с живописи: акимовскую манеру оформлять сцену нельзя было спутать ни с какой другой. Он знал секреты цвета, композиции, перспективы, сценического костюма, как никто умел пользоваться светом, вещами, бутафорией. Попросту говоря, он владел формой спектакля — формализм ему был присущ без всяких рецидивов. Неудобная сцена театра Комедии превращалась у него в пластичное, полное чудесных возможностей пространство, и это пространство могло волшебно увеличиваться, сиять, фантастически трансформироваться в его режиссерских руках. Потом, после него многие режиссеры будут спотыкаться в этом пространстве и ругать его на чем свет стоит — маленькое, узкое, актерам не разойтись. Сцена и вправду неглубока. Но он умел «обмануть» ее: при Акимове она казалась большой и удобной и для королевских замков, и для средневековых итальянских улочек, и для старинных английских парков… Если ему нужна была Испания эпохи Лопе де Веги, он сочинял таинственное свидание влюбленных в ночной тьме: они не видели друг друга, а фосфоресцирующие маски, фрукты, вино, льющееся в бокалы, — все это создавало впечатление чудесной романтической загадки… Акимова часто ругали за избыточность этой «другой жизни», за слишком яркую живописность. Сам он отвечал на эти упреки: «Выяснилось, что я хронически задавливаю режиссера, из строк рецензий вставала моя зловещая фигура, вытирающая руки от режиссерской крови. Тогда я сам стал ставить спектакли. Предполагалось, что раз я сам для себя делаю декорации, то уж себе-то я не подгажу…»
История акимовского театра Комедии — это история сценических романов режиссера с Шекспиром, Лопе де Вегой, Шериданом, Эдуардо Де Филиппо, Пристли. И, разумеется, с Евгением Шварцем. Акимов все время был как бы «на подозрении», от него то и дело ждали очередного «опасного поворота» (эту пьесу Пристли он ставил перед войной). Но, повторим, его инакомыслие носило исключительно эстетический характер. Художник, проживший большую часть жизни в тоталитарные советские времена, публицистической борьбой с «тенями» и «драконами» не интересовался. Акимов с юности раз и навсегда эмигрировал на театральную сцену, где искал «чудесный сплав» живописи и сценической игры и находил его в только ему одному известных соотношениях. Он создал блистательный образец стильного во всех отношениях театра в бесстильные времена. Вот и вся опасность его поворота. В шестидесятые годы его театр опять оказался как бы слегка на обочине: он не примеривал на себя ни одну из входящих в моду одежек — его не интересовала ни «размытость» сценического импрессионизма, ни летучая и звонкая студийность московской театральной весны, ни публицистика, ни разгадки поэтических метафор. На новых ветрах бывший «диссидент» выглядел пленительно-старомодным — с его приверженностью к законченной форме, мастерской отделке деталей, артистическому шарму, — на все это смотрели как на причуды антикварного старьевщика. Как на старинные шляпки с вуалью, хранящиеся на дне дореволюционного сундука. Елена Владимировна Юнгер в своей книге описывает мастерскую Акимова. Она называлась «Пещера волшебника» — с ее картинами и всякими антикварными вещичками, зеркалами, трубками, которые в его руках претерпевали чудесные превращения и из бытовых превращались в поэтические. Но «пещерой волшебника» можно назвать и тот образ театра, который он сочинял и строил в течение жизни. В фойе и сегодня висит его знаменитый черно-белый фотопортрет с линзой: глаз — хитрющий, улыбка — образец стальной иронии, но линза выглядит как инструмент волшебника, какого-нибудь шекспировского Просперо, пытающегося пересоздать видимую картину мира…
Кроме того, история акимовского театра — это история театрального романа Мастера с труппой. Акимовская труппа — для театралов нескольких поколений это означало знак высшего театрального качества, особый игровой градус, блистательное чувство театральности, эксцентризма, артистической выправки, грациозности. В самые безъязыкие, вялые, непраздничные времена, когда его артисты выходили на сцену, от них исходило особое сияние — праздника, красоты, особого сценического шика — в пластике, костюме, детальной отделке роли, во всем… Подобно коллекционеру, он собирал в труппе самых элегантных, остроумных, «особенных» актеров и актрис. Елена Юнгер, Ирина Гошева, Павел Суханов, Эраст Гарин, Лев Колесов, Александр Бениаминов, Елизавета Уварова, Ирина Зарубина, Глеб Флоринский, Лидия Сухаревская, Борис Тенин, позже — Борис Улитин, Геннадий Воропаев, Вера Карпова, Ольга Антонова. Они приходили и уходили, но стиль акимовского артиста — это оставалось понятием постоянным. В понятие стиля у него входили красота и шарм — он знал им цену, и его артисты тоже. Когда молодой Геннадий Воропаев появлялся на сцене в «Дон Жуане», зал замирал от восторга, так он был неотразим. Зрительницы после войны стремились кроить платья и носить прически «под Елену Юнгер»… Когда в театр пришла показываться молодая Ольга Антонова, Акимов немедленно взял ее в труппу только на том основании, что она напомнила ему юную Марию Бабанову… Акимов считал выделенность из уличной толпы даром Божьим и, делая на нее (в том числе на нее) ставку, не проигрывал. Жизнь могла опроститься и подурнеть — такое с ней то и дело случалось, но только не здесь, не на сцене этого театра, мощно охраняемого его чувством художника.
От его эпохи остались легенды: до сих пор живы столики, которые он лично «сочинял» для артистических уборных. И до сих пор живо предание, согласно которому в гримуборной Елены Юнгер даже зимой стояло дерево белой сирени. Наряду со знаменитыми афишами-плакатами и цветными витражами, сияющими зеркалами в зрительском фойе — видимыми следами легенды, это дерево белой сирени в актерской гримерке осталось как невидимый знак ушедшей театральной поэзии, художественной ауры театра.
Театр Комедии пережил великую театральную эпоху, связанную с именем его создателя. Он пережил горькие времена «безвременья», когда им правили «тени» либо ушлые алхимики, добывающие вещество театра искусственным путем. Но в его летописях также хранятся, пусть недолгие, романы с режиссерами, которые оставляли в его истории добрую сценическую память.
На этой сцене ставили спектакли Григорий Козинцев, Александр Музиль, Георгий Товстоногов.
В начале 1970-х театр возглавлял Вадим Голиков. Режиссера с философским университетским образованием упрекали в отсутствии игрового темперамента. Но в «Романтиках» Э. Ростана эта самая игровая энергия счастливо била через край рампы! Артисты Сергей Дрейден и Вячеслав Захаров доводили зал до полной смеховой погибели. Это был гомерически смешной спектакль, легкий и воздушный, как кружева на костюмах его героев, как стихи Эдмона Ростана в переводе старой-доброй Т. Щепкиной-Куперник… «Село Степанчиково» и «Горячее сердце» остались одними из самых живых, «горячих» страниц ленин?градской театральной истории шестидесятых — начала семидесятых годов. Стоит перелистать прессу тех лет — ни о чем так много, дискуссионно и страстно не писали, как об этих премьерах Вадима Голикова.
Петр Фоменко, возглавлявший театр Комедии в конце 70-х - начале 80-х, тоже здесь не прижился. Старая афиша мольеровского «Мизантропа» (художник Игорь Иванов тогда возобновил акимовскую традицию театрального плаката) — словно его режиссерский автопортрет: человек в отчаянье обхватил голову руками на фоне золоченой клетки и роскошного оперенья павлина. «Золоченая клетка» Комедии была ?освоена Петром Фоменко замечательно, но — ненадолго.
Эта сцена давала приют молодым и бездомным режиссерам. Кама Гинкас, Лев Додин, Михаил Левитин ставили здесь свои спектакли, когда у них еще не было собственных театров. И эти спектакли вносили в театральную жизнь Ленинграда явный призвук эстетического инакомыслия, дразнили тогдашних «по?граничников», в чем явно, хоть и не нарочно, наследовали Акимову. В театре Комедии вечно что-нибудь да происходило.
При этом жизнь в нем развивалась как-то обрывочно, калейдоскопично для репертуарного театра-дома. О том, что он — дом, театр вспоминал раз в году, на капустниках, заведенных еще при Акимове.
В середине девяностых театр возглавила Татьяна Казакова. После постановок на сцене «Балтийского дома» и театра Ленсовета она казалась самой подходящей фигурой: открытая театральность, игровая энергия и неженская дисциплина сценической формы виделись залогом успешного театрального романа.
«В театр пришли ?трудные люди"», — писала пресса, обыгрывая название премьерного спектакля. Казакова и не «подписывалась» на легкий курортный роман, приятный и необременительный во всех отношениях. Она пришла в «этот милый старый дом» всерьез и надолго.
Она также не стала подписывать деклараций о преемственности традиций и устанавливать знамя под портретом Акимова. Ее жест памяти Мастера был абсолютно художественным: к его юбилею, совпавшему со сценическим юбилеем Елены Юнгер, она поставила маленький шедевр, прелестный десятиминутный спектакль, воскрешающий встречу Акимова и Юнгер полувековой давности. Юнгер в роскошном малахитовом платье сидела в тот вечер на сцене и смотрела на себя — смешную куклу с рыжими косицами, беспечную и курносую.
Эту смешную куклу-девчонку увидел Художник и сочинил для нее Театр — вот и весь мини-спектакль, полный изящного юмора и нежной ностальгии по ушедшей эпохе. Он был показан всего один раз, на традиционном апрельском капустнике. Курносую куклу-двойника Елена Владимировна Юнгер забрала домой.
Казакова занялась строительством собственного театра. Она позвала в помощники лучших сценографов Петербурга — Эмиля Капелюша, Александра Орлова, они выстроили на сцене декорации удивительной красоты и подлинной театральной поэзии, вернули сцене театра Комедии живописность и объем. Как когда-то Акимов, они вновь «обманули» ее пространство, дав ему перспективу, сделав волшебным, дышащим, играющим… По сцене катались румяные райские яблоки, падавшие с высоты («Влюбленные» К. Гольдони), таинственно и изумрудно зеленел фантастической красоты староанглийский парк («Деревенская жена» У. Уичерли), и падал в темноте мокрый питерский снег («Яблочный вор» К. Драгунской, сценография Стефании Граурогкайте)…
Она позвала композитора Игоря Рогалева, и его музыка замечательно угадывала и держала ритм и нерв ее постановок.
Сама она так определяла этическую и эстетическую сущность жанра, в котором работает ее театр: «Зритель рифмует ожидания, связанные с комедией, с ожиданиями театральности как праздника, как выхода из жизни в другое измерение, ему хочется, чтобы, когда откроется занавес, он увидел яркий свет, услышал музыку, увидел красивых мужчин, женщин, мистику, фантазию — все то, чего ему так не хватает в жизни… Я считаю, что комедия дает человеку колоссальный добор дыхания».
В этом сезоне в двух последних премьерах — «Тени» и «Свадьбе Кречинского» — Казакова будто поменяла игральную колоду. Словно северный ветер подул и тучи сгустились над сценой. Яркий свет, мистика, музыка, фантазия — карты выпадали вроде бы те же… Но движение спектаклей стало раскручиваться совсем в другую сторону. Это видно даже по работе осветительского цеха. В «Трудных людях», которыми она дебютировала здесь, черно-белая, призрачная мгла к финалу рассеивалась и сцену заливал золотистый свет. Теперь словно невидимый механик поменял приборы: они в двух последних премьерах работают на явное исчезновение света. От условного сказочного королевства Е. Шварца с оранжево-апельсиновой луной на синем небосклоне — к зловещему карнавалу и «кровавой свадьбе», где у новобрачного летит с плеч голова, словно в триллере или дурном сне. А луна превращается в неоновый фонарь с мертво-болезненным холодным светом. От уюта и огней хорошо поставленного, сверкающего люстрами благородного дома Муромских — ?к ошеломительному финальному скандалу в присутствии полиции и понятых. Очевидно, что режиссер ищет новый вектор театрального движения, пробует новые краски, ищет новые темы. Не все же райским яблокам кататься по сцене, как это ни пленительно, не все же зеленеть английским садам и падать божественному, равно как и беспроигрышному, театральному снегу из-под колосников…
Казакова не из тех, кого могло бы парализовать ощущение охранной миссии, когда она бралась за святая святых, самую звонкую из легенд, оставленных Акимовым. Тем более что многие десятилетия до нее эта охранная миссия благополучно проваливалась. Не потому, что были плохи первоначальные чертежи. Они давно стали частью истории театра. Не потому, что новые артисты позволяли себе халтурить в старых декорациях — никто и не халтурил. Напротив, Тень играли в разное время такие замечательные артисты, как Виктор Гвоздицкий или рано ушедший из жизни Николай Павлов. Оба играли изящно, сложно, гротескно, с ощущением инфернальной перспективы, идущей от Шамиссо.
Но по большому счету эти актерские работы ничего не решали. И не могли решить. Все предыдущие десятилетия спектакль обновляли, реставрировали, вливали юное вино в старые мехи и т. п. Портные бесконечно перелицовывали костюмы, артисты — интонации, бутафоры обновляли реквизит. Но это была та же история, что с «Принцессой Турандот» в Вахтанговском театре, из десятилетия в десятилетие усердно прихрамывающей под знаменитый вахтанговский вальс и безнадежно утратившей в дежурных шутках свою гениальную сердцевину. Куда уж честнее было бы демонстрировать зрителю макеты, фотографии, лучше и точнее все равно не будет. (Вот и в зрительском фойе театра Комедии перед началом спектакля каждый может посетить бережно сохраняемый театральный музей — настолько бережно, что лет тридцать назад молодые артисты забаррикадировали в этом музее начальство во время банкета, поступок был хулиганский, но мизансценически талантливый. Начальство имело возможность прикоснуться к архивам.)
Ничто так не разоряет легенду, как долгожительство спектакля ценой бесконечных реанимаций. Спектакль, от сезона к сезону проходивший процедуру омоложения, был все равно только лишь бледной копией легендарной «Тени».
Казакова поставила свою «Тень» без оглядок на легенду. И какой смысл был оглядываться, если нынешнее молодое поколение зрителей не может помнить не то что предвоенный спектакль Акимова — но вряд ли видело даже популярный фильм Надежды Кошеверовой 70-х годов с Олегом Далем в ролях Ученого и Тени.
Охранительная миссия состояла не в том, чтобы «повторить по чертежам», но в том, чтобы в колеблющейся системе современных культурных ценностей не потерять те, которые Акимов с прекраснодушной стойкостью почитал за базовые. Воля к театральности, тоска по большому стилю, тщательная выделка, артистическая выправка и гротескная заостренность рисунка, чувство сценического ансамбля, ритма, пластическая проработанность каждого образа и массовых сцен — именно на эти козыри и поставила Казакова.
В этом же сезоне пьеса Шварца была представлена Юрием Ереминым в московском РАМТе. Его первый и главный, судя по описаниям московских критиков, жест: он снял со сказочной истории волшебное покрывало, даже в программке обозначив — «почти реальная история». У Казаковой «реальные истории» не имеют реальной территории, даже если она ставит новую драму, к примеру, Ксении Драгунской. В этом смысле она, скорее, непрограммно наследует Акимову, уводя героев в «смещенное», фантастическое пространство, в «пещеру волшебника», подальше от прямого света. Потому что при дневном свете — что делать сегодня с чуть назидательной «тайнописью» Шварца, которая была актуальна в 1940 году, но не в 2004-м? Что делать со всеми его иносказаниями, если все «тени» и «драконы» сегодня разоблачены, все в нашем королевстве про них известно и они надежно заняли руководящие посты и позиции.
Казакову в этой истории привлекал вневременной смысл философской притчи, восходящий к Андерсену и Шамиссо, а также — совершенно очевидно — сценическая интерпретация ее мистических возможностей. Она доверилась жанру, первой реплике Ученого, потерявшего очки: «В сумерках моя комната кажется не такою, как обычно», — и поставила сказочное приключение с присущими этому жанру родовыми театральными чертами.
Старая сказка сыграна в декорациях Эмиля Капелюша (художники по свету Евгений Ганзбург и Глеб Фильштинский) с центральной «концептуальной» кон?струкцией: посреди сцены — зловещая вертикаль, по которой карабкается Тень, трон и плаха остроумно соединены в одной точке. Восхождение к власти со смертельной перспективой.
Тьма-тьмущая, воздух словно выкачан, и будто в вакууме движутся маскарадные фигуры. Никакого тебе спасительного сказочного уюта, все происходит будто в страшном сне, приснившемся Ученому. Только из сна этого не вырваться, из него «не проснуться», и надо пройти еще раз эту старинную историю про человека и его тень. В этом королевстве принято улыбаться, всегда, на всякий случай, даже если убивают, и виртуозной красоты массовка, словно образцовая дивизия, брошена в бой. Художница С. Граурогкайте нарядила артистов в потрясающие костюмы. Парча, капрон, шелка, струящиеся газовые шарфы и невероятных расцветок перья — зловещий и блистательный истеблишмент, словно светский репортаж на страницах дорогого глянцевого журнала. Все отлично знают, как улыбнуться, как промолчать, какую принять позу. Бал манекенов, рассчитанных жестов, острот, улыбок… Королева бала — острая и терпкая Юлия Джули (Наталья Андреева), в ней роскошь и блеск светского ритуала доведены до ослепительной, гомерической крайности. Очень дорогой, но совершенно мертвый карнавал. Обманный праздник. Самый живой на этом застывшем от напряжения празднике жизни — глубокий инвалид, министр финансов (Михаил Светин срывает в этой роли заслуженный успех). Он давно уже находится в параличе, но то и дело дает горячие команды подданным: придайте мне позу непринужденной беседы… крайнего изумления… топните ногой… В принципе, режиссер всем на этом дьявольском карнавале «придала позы» — выстроила мизансцены так, словно разыграла шахматную партию.
Только два человека мечутся по клеточкам этого королевства неприкаянно и неумело. Им ни за что на свете не вписаться в стройные общие мизансцены: «ах, эти честные и наивные люди!». Ученый (Денис Зайцев) и Аннунциата (Татьяна Воротникова), тоненькая девушка с преданными «собачьими» глазами, которые светятся в любой тьме. Но им эту тьму не одолеть никакими правдами, а неправдами они одолевать не умеют. Как бы Ученый ни кричал: «Тень, знай свое место! И вот я победил!. Да неужели же я говорю в пустыне?!.» — его никто не слышит. Слова тонут, как в вате. Да, он говорит в пустыне, и массовка эту «оглохшую» пустыню играет.
Принцесса в исполнении Елены Руфановой — балетная фигурка, легкое светлое платье, золотые волосы, серебряный голос с капризно-ломкими интонациями. В ней есть печальная обреченность. Словно девочка-балерина с картин Дега или прилежная ученица Вагановского училища… Она появляется в призрачном лунном сиянии, словно мираж. В ней что-то нездешнее, счастье ей не грозит с первой секунды, это мы понимаем. Поэтому во втором акте ее переодевают в эффектное кроваво-красное платье: в таком счастливые принцессы не идут к венцу, но она и не счастливая. Эту принцессу страшно подставили. И не только придворные со своими коварными интригами, не давшие ей разглядеть единственного честного человека, забредшего в их государство. Ее «подставила» и режиссер, дав ей в партнеры ту Тень, которую мы видим…
Дорогая, ручной выделки ткань спектакля начинает рваться, как только появляется Тень (Сергей Русскин). Центральная роль попала до обидного не в те руки. Понятно, что в сегодняшней труппе театра Комедии нет Олега Даля (его нет ни в какой труппе на свете), нет Виктора Гвоздицкого. Но чтобы совершить путь дьявольского обмана и восхождения к трону, невозможно играть на одной-единственной струне, как это делает С. Русскин: отвратительного уродства и только. Тень ведь обольщает Принцессу, рассказывая ей тайное тайных — ее сны. В ее зловещем восхождении должно быть что-то чарующее, неостановимое, чему невозможно сопротивляться. Образ ведь должен на чем-то держаться — пусть на обманном, гротескном, но — обаянии. Эта же Тень — удивительно непластична, мечется по сцене, пытаясь запугать, словно кикимора болотная на детском халтурном утреннике. Бедная Принцесса, собравшаяся под венец с таким суженым, больше напоминает героиню совсем другой сказки Андерсена — Дюймовочку, вышедшую с горя замуж за старого слепого крота. Тень похожа на бритоголового братка-криминала с бычьей шеей и выпученными глазами, который, кажется, не сходя с места «замочит» всех.
Увы, в этом изящном спектакле с его инфернальной, тревожной красотой Тень выглядит пришельцем из другой истории.
«Вы видите, Тень заняла престол?!» Видим. Заняла. И еще займет неоднократно. И честным наивным людям остается один выход — бежать отсюда, как бегут в финале Ученый и Аннунциата. Они сбегают из ?этого королевства, с этой сцены, как будто где-то есть другой мир, который их примет. Шварц все-таки добился победы добра над злом, Тень изгнана, а ученый морально торжествует в финале. Не то — в спектакле. Трогательный идеализм простых душ, верящих, что от их возгласа «в путь!» что-то зависит, как будто где-то есть другое королевство или другой, более милосерд?ный глобус, вызывает гораздо больше тревоги, чем радости. Прощаясь с ними, режиссер не подсвечивает им «светлый путь»: никаких иллюзий у нее нет. Какая правда? Какая победа? Они бегут из манекенного королевства в темную, пугающую неизвестность… В этом печальная безнадежность старой сказки, как ее понимает Татьяна Казакова.
В «Свадьбе Кречинского» другая «тень» почти достигла престола и принцессы - было рукой подать, но — сорвалось. Всему виной — какой-то фальшивый бриллиант.
Как азартно закрутил Михаил Васильич Кречинский (Михаил Разумовский) свою свадебную карусель, как все чудесно катилось, казалось бы, к празднику! Глупый тур вальса — и юная невеста с огромным приданым — в твоих руках! Все было готово к свадьбе, ко второму акту диагональ сцены эффектно пересек тюлевый занавес, за ним — белоснежный свадебный стол, и так празднично сверкают фужеры, и пенится шампанское. Уютные диваны, кресла, колокольчик, в который звонит бестолковый слуга Тишка. Почтенное семейство, приличный дом, в котором роли разошлись, как амплуа в старом дорежиссерском театре. Благородный отец Муромский (Эрнест Романов) с бархатным голосом и близкой слезой в светлых глазах, как и подобает благородным отцам. Героиня — Лидочка (увы, актриса Марина Засухина на героиню никак не тянет, в лучшем случае — скромная инженю, и тоже с близкой слезой в светлых глазах). Зато тетка Атуева — настоящая генеральша этого дома, хитроумный его главнокомандующий, настоящая комическая старуха, даром что молодящаяся. (Когда говорят, что в современном театре перевелись комические старухи, думаешь: вот Ирина Цветкова, хоть совсем еще средних лет артистка, уверенно занимает эту игровую нишу, то ли еще будет!)
Но подлинная пружина спектакля все-таки держится на контрастном дуэте двух авантюристов, взорвавших уют почтенного дома. Один блистательный, настоящий фрачный герой, на нем даже домашний халат сидит как тога на императоре. За таким не то чтобы на глупый тур вальса — в Сибирь девушка помчится, забыв про все на свете! У Михаила Разумовского сумасшедший, злой огонек в глазах, ну чистый Джек Николсон! Новорусский дьявол, легко и играючи срывающий банк! Владелец «теневых» капиталов, помещик без имения, азартный игрок… И — оборванный, заплеванный, латаный-перелатаный, битый-перебитый («третья трепка за сутки!») маленький человек Расплюев (Михаил Светин). Шантрапа, взлохмаченный мальчишка до старости лет, карманник, шельма, меченая богом и артистическим даром, который в его суровом ремесле — тоже дело не последнее. Казалось бы — ну какие они подельники-коллеги? А между тем — замечательная игровая связка, держащая в напряжении не только дом бедных Муромских, но и весь зрительный зал.
Но, как предписано Сухово-Кобылиным, полиция в финале все-таки ворвется в дом и скучный правдолюбец Нелькин выведет-таки аферистов на чистую воду. Полиция стучится так, будто это гремит гром небесный. Будто судьба ломится в двери, а не пристав. «Судьба, за что гонишь?» Ложь! Скандал! Позор! И весь шум — из-за крошечного бриллианта.
Какой прекраснодушной кажется сегодня пьеса! Словно памятник прошлогоднему снегу, который в России больше никогда, ни при каких погодах не выпадет, такой он был сверкающей белизны! Злодей посрамлен, бедная девушка в обмороке. Совсем скоро эту пьесу невозможно будет ставить, ее просто никто не поймет. Господи, с чего столько шума? Отчего с таким прон?зительным драматизмом разыгрывается история о подмененном бриллианте?
Кажется, что Кречинский поторопился родиться, ему достался явно не тот век. Сегодня он сделал бы замечательную карьеру — скупил бы все бриллианты, в придачу яйца Фаберже, и царские короны, и футбольные клубы, и английские поместья, и независимое телевидение, и испанские набережные… И никто его не объявит в розыск, и полицейские всего мира не сбегутся арестовывать, и пресса сообщит о его покупках как о чем-то само собой разумеющемся, и никакой поруганной чести, позора или там грома небесного… Гром гремит там, где живут по человеческим законам. То есть на территории русской классики.
Разумеется, последний абзац не имеет к спектаклю отношения. Он имеет отношение к той жизни, которая происходит за пределами «пещеры волшебника». Эта жизнь с ее «почти реальными историями» ставит русскую классическую пьесу «Свадьба Кречинского» в положение чуть ли не хрустальной рождественской сказки. А режиссер театра Комедии Татьяна Казакова — при всем ее нешуточном чувстве сценического драматизма — выглядит последним театральным сочинителем сказок.
Между тем ее театр не обманывает зрительских надежд. Режиссер оправдывает «ожидания театральности как праздника, как выхода из жизни в другое измерение».
Июнь 2004 г.
Вернуться к списку новостей