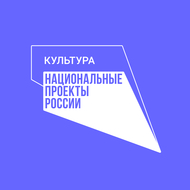Джурова Татьяна Карнавала не будет // ПТЖ. 2002. № 3.

Все фотографии ()
Как залог грядущих удовольствий на авансцене выстроились в ряд соблазнительно поблескивающие бокалы и изящные бутылки. Ироничное и наивно-опасное оформление — очень удачный образ того, что М. Бахтин обозначил как «телесный космос». Что предполагает подобная среда? Достойных ее обитателей. Настоящих раблезианцев. В то же время ее неназойливая, разреженная концептуальность не приговаривает к тому, чтобы в ней разыгрывали некую конкретную историю, а словно напоминает актерам: ты — мужчина, а ты — женщина, и обитаете вы в лесу собственного гипертрофированного естества. Вот и ведите себя соответствующим образом. Эта среда требует от актеров куража, смешливости, игры двусмысленностями.
Но художественные реалии спектакля Валерия Саркисова и природа персонажей, созданных актерами театра Комедии, оказались весьма далекими от сценографической концепции.
И. Мазуркевич (Миссис Пейдж), Н. Андреева (Миссис Форд).
Фото В. Урванцева
И А. А. Аникст, и А. В. Бартошевич, и Л. Е. Пинский называют «Виндзорских проказниц» одной из самых dell’arte’вских комедий Шекспира. Взять хотя бы действующих лиц — своего рода модификации традиционных масок итальянской комедии — «хвастливого воина» (Фальстафа), «доктора» Каюса, лукавого слугу, схематичную парочку влюбленных, чьи злоключения являются формальным двигателем интриги и т. д. и т. п. Разница с dell’arte в том, что комичность шекспировских персонажей-масок заключена в несоответствии социальной функции человека его сущности, природе, представляющей собой гипертрофию того или иного качества-страсти.
В спектакле Саркисова тоже действуют маски. Ревнивец Форд — Сергей Барковский. Глуповатый недоросль Слендер (недальний родственник Эгьючика) — Виталий Кузьмин. Добродушный Гайдж — Александр Лесков. Брутально воинственный Каюс — Сергей Козик. Болтливая хитрюга Квикли — Валерия Киселева. Большинство других второстепенных персонажей, к сожалению, настолько бесцветны, что их почти невозможно описать. Режиссер не играет в сатирическое раздвоение маски на «лицо» и «роль». Это его право. Возможно, сатирический потенциал «Проказниц» слишком связан с историческим контекстом и не поддается актуализации. Но взамен этой «игры» режиссер не предлагает актерам никакой другой. Правда, отсутствие режиссерского решения можно было бы скрыть, если бы не стандартность, усредненность образов героев, дефицит ярких актерских работ.
Лучшие спектакли Татьяны Казаковой (как, например, недавний «Доктор философии») хороши именно калейдоскопичностью образов-масок, многоцветьем фактур, пластик, деталей костюма или грима, делающих персонаж не похожим ни на кого другого. Эксцентричность характера, выразительность реакции персонажа явлены в форме трюка, характерного только для того него и вместе с тем — всегда неожиданного.
В спектакле Валерия Саркисова актеры не вносят в образы героев какого бы то ни было индивидуализирующего оттенка, в течение всего действия работая на одном-двух интонационных или мимических «приспособлениях». Что запоминается? То, как умильно гримасничает миссис Квикли. То, как неистовствует Каюс, взахлеб коверкая «английское» произношение. Как принимают незамысловатые модельные позы кукольные влюбленные Анна Пейдж и Фентон. Кроме этого, актерам, играющим в «Виндзорских проказницах», довольно неуютно в пространстве динамических гипербол Александра Орлова. Они тщетно пытаются обыграть и приручить сценографию, но монументальный эротический лес не поддается обытовлению и интимизации. Напротив, он требует от актера эксцентрики, обостренной до фарса выразительности. В таких пьесах, как «Виндзорские проказницы», игровая природа персонажа просто не может не подкрепляться игровым способом существования актера. Но что делать, если в пьесе, где карнавальность является структурообразующим принципом, актеры не хотят «играть» и удивляться своим героям?
На общем фоне выгодно выделяется Сергей Барковский. Его Форд (именно Форд, а не Барковский) просто наслаждается ролью обманутого супруга — клокочет, неистовствует, пробует на вкус звание рогоносца. Его лже-Брук — едва ли не самостоятельная роль внутри роли. Во время визита к Фальстафу он настолько заигрывается, что в потоке импровизаций забывает цель своего посещения.
Хорош и главный женский дуэт спектакля. «Феминистка» миссис Пейдж — Ирина Мазуркевич в строгом серо-стальном охотничьем «унисексе» противопоставлена розовой «душечке» Форд — Наталье Андреевой — в рюшечках, кружевах и оборочках. Из чтения полученного письма Ирина Мазуркевич устраивает целый моноспектакль. Ее героиня врывается на сцену, в спешке отдуваясь и едва ли не на ходу срывая цилиндр и ставший слишком тугим строгий воротничок. Пробует на вкус каждую строчку письма, иронизируя, негодуя и с трудом скрывая удовольствие. Правда, при появлении миссис Форд и обнаружении обмана быстро берет себя в руки и возвращается к роли поборницы добродетели.
Наталья Андреева, в отличие от более драматичной Ирины Мазуркевич, существует в жанре фарса. «Логика» поведения ее героини соответствует «логике» сценической среды. Импульсивная миссис Форд задыхается, пылает, трепещет и если бы не миссис Пейдж, то в любой момент открыла бы Фальстафу свои жаркие объятия. Во время поисков воображаемого любовника мужем-ревнивцем и ватагой гостей миссис Форд будто пьянеет от восторга и вот-вот начнет испускать электрические разряды.
Ясен и мотив поведения героинь: уязвленное самолюбие Пейдж подбивает любвеобильность Форд на мщение.
Н. Андреева (Миссис Форд), В. Никитенко (Сэр Джон Фальстаф), И. Мазуркевич (Миссис Пейдж).
Фото В. Урванцева
По Шекспиру, «кризис ренессансного гуманизма» заключается в том, что носитель могучего раблезианского естества пытается проникнуть не под юбки прекрасных дам, а в кошельки их мужей. Но такой Фальстаф, каким его играет Валерий Никитенко, вряд ли может кого-то ввести в заблуждение, тем более — ответить на нерастраченную страсть. Обаятельно-нелепый и трогательный в своем наивном самодовольстве, он даже не пытается более или менее убедительно разыграть эротический интерес к виндзорским прелестницам и при этом свято верит в свою мужскую неотразимость. Этому безобидному рохле не любовь нужна, а массаж загривка. На этом можно было бы и построить конфликт, совпадающий с тем, что предлагает сценография А. Орлова: конфликт мнимой мужественности и мстительной, нереализованной женственности.
И последнее: карнавальный дух игры мнимостями, розыгрышей, переодеваний и надувательств, который пронизывает «Виндзорских проказниц» на всех структурных уровнях, воплотился разве что в формальной «рамке» спектакля — танце рогатого духа лесничего Герна и финальной сцене розыгрыша-наказания Фальстафа. Лесной праздник в финале пьесы Шекспира ведет свою генеалогию от средневекового карнавала, праздника вседозволенности и игровых перевертышей, на один день разрешающего все социальные и интимные противоречия. Но в спектакле сцена инициации-карнавала с жертвенным «козлом отпущения» (Фальстафом) в центре хоровода стандартно решена как танцевальный номер, декоративная шоу-заставка в рамке из травяного, листвяного, цветочного избыточного роскошества костюмов Ирины Чередниковой. Действие, движимое исключительно инерцией сюжета, останавливается. Фальстаф посрамлен. Супруги помирились. А влюбленные воссоединились. Актерам не остается ничего другого, как, расположившись на «травке», произнести заключительный текст, приправленный неуместной дидактикой.
Сентябрь 2002
Но художественные реалии спектакля Валерия Саркисова и природа персонажей, созданных актерами театра Комедии, оказались весьма далекими от сценографической концепции.
И. Мазуркевич (Миссис Пейдж), Н. Андреева (Миссис Форд).
Фото В. Урванцева
И А. А. Аникст, и А. В. Бартошевич, и Л. Е. Пинский называют «Виндзорских проказниц» одной из самых dell’arte’вских комедий Шекспира. Взять хотя бы действующих лиц — своего рода модификации традиционных масок итальянской комедии — «хвастливого воина» (Фальстафа), «доктора» Каюса, лукавого слугу, схематичную парочку влюбленных, чьи злоключения являются формальным двигателем интриги и т. д. и т. п. Разница с dell’arte в том, что комичность шекспировских персонажей-масок заключена в несоответствии социальной функции человека его сущности, природе, представляющей собой гипертрофию того или иного качества-страсти.
В спектакле Саркисова тоже действуют маски. Ревнивец Форд — Сергей Барковский. Глуповатый недоросль Слендер (недальний родственник Эгьючика) — Виталий Кузьмин. Добродушный Гайдж — Александр Лесков. Брутально воинственный Каюс — Сергей Козик. Болтливая хитрюга Квикли — Валерия Киселева. Большинство других второстепенных персонажей, к сожалению, настолько бесцветны, что их почти невозможно описать. Режиссер не играет в сатирическое раздвоение маски на «лицо» и «роль». Это его право. Возможно, сатирический потенциал «Проказниц» слишком связан с историческим контекстом и не поддается актуализации. Но взамен этой «игры» режиссер не предлагает актерам никакой другой. Правда, отсутствие режиссерского решения можно было бы скрыть, если бы не стандартность, усредненность образов героев, дефицит ярких актерских работ.
Лучшие спектакли Татьяны Казаковой (как, например, недавний «Доктор философии») хороши именно калейдоскопичностью образов-масок, многоцветьем фактур, пластик, деталей костюма или грима, делающих персонаж не похожим ни на кого другого. Эксцентричность характера, выразительность реакции персонажа явлены в форме трюка, характерного только для того него и вместе с тем — всегда неожиданного.
В спектакле Валерия Саркисова актеры не вносят в образы героев какого бы то ни было индивидуализирующего оттенка, в течение всего действия работая на одном-двух интонационных или мимических «приспособлениях». Что запоминается? То, как умильно гримасничает миссис Квикли. То, как неистовствует Каюс, взахлеб коверкая «английское» произношение. Как принимают незамысловатые модельные позы кукольные влюбленные Анна Пейдж и Фентон. Кроме этого, актерам, играющим в «Виндзорских проказницах», довольно неуютно в пространстве динамических гипербол Александра Орлова. Они тщетно пытаются обыграть и приручить сценографию, но монументальный эротический лес не поддается обытовлению и интимизации. Напротив, он требует от актера эксцентрики, обостренной до фарса выразительности. В таких пьесах, как «Виндзорские проказницы», игровая природа персонажа просто не может не подкрепляться игровым способом существования актера. Но что делать, если в пьесе, где карнавальность является структурообразующим принципом, актеры не хотят «играть» и удивляться своим героям?
На общем фоне выгодно выделяется Сергей Барковский. Его Форд (именно Форд, а не Барковский) просто наслаждается ролью обманутого супруга — клокочет, неистовствует, пробует на вкус звание рогоносца. Его лже-Брук — едва ли не самостоятельная роль внутри роли. Во время визита к Фальстафу он настолько заигрывается, что в потоке импровизаций забывает цель своего посещения.
Хорош и главный женский дуэт спектакля. «Феминистка» миссис Пейдж — Ирина Мазуркевич в строгом серо-стальном охотничьем «унисексе» противопоставлена розовой «душечке» Форд — Наталье Андреевой — в рюшечках, кружевах и оборочках. Из чтения полученного письма Ирина Мазуркевич устраивает целый моноспектакль. Ее героиня врывается на сцену, в спешке отдуваясь и едва ли не на ходу срывая цилиндр и ставший слишком тугим строгий воротничок. Пробует на вкус каждую строчку письма, иронизируя, негодуя и с трудом скрывая удовольствие. Правда, при появлении миссис Форд и обнаружении обмана быстро берет себя в руки и возвращается к роли поборницы добродетели.
Наталья Андреева, в отличие от более драматичной Ирины Мазуркевич, существует в жанре фарса. «Логика» поведения ее героини соответствует «логике» сценической среды. Импульсивная миссис Форд задыхается, пылает, трепещет и если бы не миссис Пейдж, то в любой момент открыла бы Фальстафу свои жаркие объятия. Во время поисков воображаемого любовника мужем-ревнивцем и ватагой гостей миссис Форд будто пьянеет от восторга и вот-вот начнет испускать электрические разряды.
Ясен и мотив поведения героинь: уязвленное самолюбие Пейдж подбивает любвеобильность Форд на мщение.
Н. Андреева (Миссис Форд), В. Никитенко (Сэр Джон Фальстаф), И. Мазуркевич (Миссис Пейдж).
Фото В. Урванцева
По Шекспиру, «кризис ренессансного гуманизма» заключается в том, что носитель могучего раблезианского естества пытается проникнуть не под юбки прекрасных дам, а в кошельки их мужей. Но такой Фальстаф, каким его играет Валерий Никитенко, вряд ли может кого-то ввести в заблуждение, тем более — ответить на нерастраченную страсть. Обаятельно-нелепый и трогательный в своем наивном самодовольстве, он даже не пытается более или менее убедительно разыграть эротический интерес к виндзорским прелестницам и при этом свято верит в свою мужскую неотразимость. Этому безобидному рохле не любовь нужна, а массаж загривка. На этом можно было бы и построить конфликт, совпадающий с тем, что предлагает сценография А. Орлова: конфликт мнимой мужественности и мстительной, нереализованной женственности.
И последнее: карнавальный дух игры мнимостями, розыгрышей, переодеваний и надувательств, который пронизывает «Виндзорских проказниц» на всех структурных уровнях, воплотился разве что в формальной «рамке» спектакля — танце рогатого духа лесничего Герна и финальной сцене розыгрыша-наказания Фальстафа. Лесной праздник в финале пьесы Шекспира ведет свою генеалогию от средневекового карнавала, праздника вседозволенности и игровых перевертышей, на один день разрешающего все социальные и интимные противоречия. Но в спектакле сцена инициации-карнавала с жертвенным «козлом отпущения» (Фальстафом) в центре хоровода стандартно решена как танцевальный номер, декоративная шоу-заставка в рамке из травяного, листвяного, цветочного избыточного роскошества костюмов Ирины Чередниковой. Действие, движимое исключительно инерцией сюжета, останавливается. Фальстаф посрамлен. Супруги помирились. А влюбленные воссоединились. Актерам не остается ничего другого, как, расположившись на «травке», произнести заключительный текст, приправленный неуместной дидактикой.
Сентябрь 2002
Вернуться к списку новостей