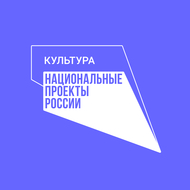Савицкая О., Скорочкина О., Дубшан Л. ВСЕ БЫЛО ГОТОВО К ПИРУ… // ПТЖ. 2000. № 22.

Все фотографии ()
О ТОМ, КАК ИСКУСНО СЦЕНОГРАФ ОРЛОВ ПРИТВОРИЛСЯ ДЕКОРАТОРОМ
Ах, какие эффектные эскизы сделал он для постановки «Деревенской жены»! Нарядные. Щедрые на детали, которых в шести листах столько, что хватило бы на шестьдесят. Обильные до избыточности. Такие, словно хотел демонстративно опровергнуть свою репутацию сценографического аскета. И успешно опроверг, виртуозно прикинувшись декоратором-пассеистом. Стилизатором в духе стилизаторов «Мира искусства», глядевших сквозь анфиладу веков: поэтическая дымка прошлого, охваченная графической рамкой или сценическим порталом, облагораживала все, что попадалось на глаза.
Конечно, спустя век прозрачность и богатство акварельных оттенков сменились жесткой компьютерной графикой (в этой технике сделаны эскизы Орлова). Но в самой жесткости, почти олеографичности цвета чудится некая игра в наивность. Ирония. Которая вполне пристала комедии с фривольным сюжетом, запутанной интригой и забавными характерами. Истории о ревнивце и его жене — деревенской простушке, чья простота оказалась похлеще любого воровства.
Время действия этого зрелища — «где-то около конца» XVII века: историческая точность давно никому не нужна, а «вообще прошлое» развязывает руки и позволяет «сделать нам красиво». Сценографический — полукруглый и кружащийся — занавес «Господина Фрейда» словно распался, раздробился на плоские планы традиционной декорации. На многочисленные завесы и занавесы «Деревенской жены». Кудрявые французские шторы и плавные ламбрекены повисли параллельно рампе. В их витиеватости просвечивал мелочный декор XVII века, обилие извивов уравновешивалось прямоугольниками ширм.
Английская пьеса «Деревенская жена»… Выделение курсивом подсказало еще один пластический мотив: живые изгороди и регулярные парки, где растениям придана геометрическая форма и своей правильностью они напоминают хорошо подстриженного пуделя. А также могут служить декорацией. Боскетный театр, известный нам более всего по картинам Сомова. В «Деревенской жене» — это помещенная в глубине стена искусственной зелени, действительно стена с нишами, проемами и окнами. Ее театральное происхождение обнаружится, когда в одном из окон появятся музыканты, а сквозь нити зелени призывно загорятся огни театра. В декорации Орлова скрыт эффект, подобный тому, что дает сцена на сцене: «двойная театральность», таящаяся в боскетной стене и многочисленных занавесах. Потому-то вспоминаются мирискусники, строившие композицию «как на подмостках», а Бенуа и впрямь писал, расставляя в макете фигурки в костюмах прошлых веков.
В целом декорация Орлова представляет собой систему разнообразных завес, дробящих пространство на множество укромных уголков, что в итоге наделяет среду качеством ДВУСМЫСЛЕННОСТИ. Здесь чудится шепот влюбленных. Тайные встречи. Выглядывающие полуфигуры. Блеск глаз в прорезях маски. Мелькнувший в портшезе женский силуэт. Сладко, таинственно и манко. Всюду разлита возбуждающая атмосфера ночных приключений. Полузапретных эротических игр. Пропорции чувственности и игривости, когда чувство не превращается в отягощающую страсть, а игра остается всего лишь игрой, продиктовали ритмы этого пространства, где во тьме зеленого массива растворяются крадущиеся тени, а тяжкое горенье красного бархата притушено графикой мелких драпировок.
Но в спектакле все оказывается приземленнее и проще: исчезли нюансы, а затем последовательно оказались ненужными загадочный свет фонарей и портшез, таинственная сень с шепотом мелкой листвы и пьянящая глубина пространства. Действие выкатилось на авансцену и персонажи, нимало не озаботясь возможностями укромных уголков, расположились поближе к рампе, где самое видное место занял главный «обольститель» — мистер Хорнер — Артур Ваха. Внешне и внутренне неподвижный. Самодостаточный. В чью способность к любовной интриге можно поверить лишь весьма-весьма условно. Заявленная в эскизах внутренняя глубина в реальности сцены обернулась картонной картинкой. Дело здесь не в художнике. Тогда в чем? Как? Почему?
ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ?
Сцена из спектакля.
Фото В. Урванцева
Комедия Уичерли о том, что нет сил и способов противостоять стихии любви-игры: она обволакивает, кружит голову и обводит вокруг пальца всех. От ее сетей не спастись ни ревнивому супругу, ни жениху, из соображений светскости подталкивающему невесту в объятия любовника. Ей подвластны деревенская простушка и юная леди, твердо придерживающаяся понятий о чести. «Диапазон эротизма» в пьесе достаточно широк: в ней есть ситуации, предвосхищающие фарсовые положения «Великодушного рогоносца». Ревнивец заставляет жену показывать, как она целовалась с соперником, чтобы определить, до какой степени она в него, соперника, влюблена. А незнакомый с чувством ревности Спаркиш добровольно отводит невесту… правда, не к тому, к кому надо.
Но есть и другое. Подмены, подлоги и уловки образуют такую путаницу, сплетаются в такое кружево, что сама ткань действия обретает паутинную легкость. Невесомую пену любви. И эта атмосфера, по-видимому, пленила постановщиков.
Насыщенные краски фарса, комизм положений Казаковой и ее актерам не близки. Лучшее, что есть в созданных ею спектаклях, это внутренняя музыкальность действия, когда звуки словно падают чисто и звонко, как весенняя капель, а затем истаивают, подобно облачку-сновидению. Прозрачность интонаций, чувств, всего строя произведения… Потому-то давно хочется увидеть поставленные Казаковой «Сон в летнюю ночь» или «Бесплодные усилия любви».
Мотыльковая амурная энергия временами действительно возникает в «Деревенской жене». Причем там, где… не ждешь. Сочные комедийные ситуации сыграны будто бы вскользь, без акцентов и ударений. Так работает Евгений Баранов (Пинчуайф), проводя наиболее фарсовые сцены легко и без всякого нажима. Тяжкая ревность его героя обозначена… акварельным мазком. Мрачная сосредоточенность сыграна словно в шутку, невсерьез, от чего возникает особый, нежный комизм, словно вплавленный в ткань актерского существования. Разлитый, растворенный внутри роли. В том же ключе существуют женские персонажи: бесхитростная, любопытная и кокетливая Маджери — Н. Ткаченко; чистая, как Психея, Алитея — А. Флоринская. Выше всего ценя юность и естественность, XVIII век имитировал их розовым румянцем пасторалей с затянутыми в корсет пастушками. Но в Маджери казаковского спектакля присутствует настоящая естественность: неяркая и потому — соблазнительная. Алитея Флоринской защищает свою честь… ненастойчиво — и поэтому… правдоподобно.
Воздушность существования. Чуть заметная ироничность. Колеблемая легким ветерком импровизации материя действия, мастером плетения которой является Т. Казакова. Кажется, вот-вот все оживет, закружится карусель и затрепещет душа спектакля. Но нет. Вновь потянутся на авансцену персонажи. Раздадутся репризные реплики-остроты. Полет действия сменится отчетом о событиях, в которых к финалу исполнители запутаются так же, как их герои: скорее бы развязаться с этими письмами, любовниками и особенно со сценой маскарада, в силу какого-то дьявольского противоречия ставшей верхом внутренней неподвижности. Одноплановость чередуется с внезапно возникающей и так же внезапно исчезающей глубиной. Но преобладает первое, и перед глазами возникает картинка: актер + текст + костюм. Именно костюм делает необоримым желание оглянуться назад, в прошлое.
РЕТРОРЕКВИЕМ
Праздничная «Деревенская жена» в Театре комедии (наряду с суровой «Софьей Петровной» в новосибирском «Глобусе») стала последним спектаклем художницы по костюмам О. Саваренской*.
*Костюмы доводились уже после смерти художницы силами театра.
В памяти всплывает давний, почти четвертьвековой давности «Мизантроп» на той же сцене. Один из первых запомнившихся спектаклей Саваренской. Вот уж где «сыпалось золото с кружев»! Дрожали многочисленные оборки на рукавах Селимены, и юбки эффектно мели золотую клетку декорации (художником-постановщиком был И. Иванов). Пышные до чрезмерности (за что Саваренской досталось) костюмы. Видя ее сегодняшние работы, сознаешь, как отточила она некогда бившую через край энергию молодости. Дисциплинировала желание «сделать красиво». Насколько изощреннее, тоньше и продуманнее костюмы «Деревенской жены». Ироничнее. Остроумнее. Излюбленное художницей сочетание современных деталей и исторических форм. Идущие сквозь века рифмовки, придающие костюму пикантность и работающие на актера.
Топ Алитеи в сочетании с широкой старинной юбкой.
Вновь модные сегодня широкие отвороты 1970-х в костюмах светских дам, являющихся единым строем в униформе бойцов любви — одинаковых нарядах, разнящихся лишь цветом отделки.
Черезчур пышное, с переливами жабо Спаркиша, которым он, пыжась, потряхивает, мгновенно делаясь похожим на самодовольного, но безвредного петуха.
Фата длины столь безмерной, что служанка, стремясь поспеть за госпожой, обматывает белую ткань вокруг себя крест-накрест наподобие деревенской косынки.
Как любила художница эти придумки для актеров, найденные вместе с режиссером. Как восхищалась постановщиком Орловым. И тут…
…ТЕНЬ «ГОСПОДИНА ФРЕЙДА»…
…сколько ее ни отгоняй, вмешивается в происходящее и решительно отказывается покинуть сцену.
Постановка пьесы Шницлера была одной из наиболее любимых Саваренской. Она работала упоенно и старательно: запомнилось заранее пересчитанное художницей число крючков на корсаже и указанная в миллиметрах ширина кружев на панталонах. Но главное — не количество крючков и оборок, а драматургия костюма, когда все его перемены, раздевания и переодевания становились неотъемлемой частью актерского образа. Вплетались в психологическую атмосферу. Участвовали в ее переливах, и сладость любовных соблазнов соседствовала с иронией, горьковатой, как вкус миндаля. А все это подхватывалось, подгонялось полетом и круженьем прозрачного занавеса.
Костюм в «Господине Фрейде» играл. В то время как в «Деревенской жене» актеры НЕСУТ НА СЕБЕ НАРЯДЫ, а их перемены свидетельствуют преимущественно о материальных затратах на постановку. Но искусству Казаковой не свойственна завершенность очертаний и жесткость почерка. Ей безразлична — и более того — противопоказана победительная наглость шоу. Режиссер не ставит точек над «i», предпочитая размытый мазок, позволяющий ощутить дыхание материала. Легкое. Импровизационное. Когда в мерцании смыслов возникает чарующее жемчужное облако, где прозрачна тень печали, а тут и там разбросаны блестки юмора.
Порой это жемчужное свечение посещает пространство «Деревенской жены», но когда оно гаснет, испытываешь чувство утраты. Ибо все было приготовлено к пиру. Но что-то разладилось: не пришли самые дорогие гости. Их места за столом заняли случайные люди. Музыкантам не доплатили, и они перестали играть, и поиск виноватых не заменит не состоявшейся праздничной встречи.
Июнь 2000 г.
Леонид Дубшан
Сцена из спектакля.
Фото В. Урванцева
Зеленый плющ, заключенный в строгую стереометрию боскета, хотел бы виться привольно. Сценография Александра Орлова, великолепная визуально, еще и чрезвычайно семиотична: природа и цивилизация, чувство и разум, страсть и мораль, сентиментализм и классицизм… — верная пластическая формула, выведенная художником, позволяет подставлять множество частных значений. Деревня и город, наконец, потому что жена-то — деревенская, а происходит дело — в Лондоне.
Это Лондон 1670-х, диктатура Кромвеля с ее пуританской идеологической хмурью недавно пала, и все как с цепи сорвались. Передовая молодежь спешит осуществлять пришедшую свободу, понимая ее, в первую очередь, как свободу любить. Наиболее радикальные элементы трактуют ее как свободу трахаться с кем попало, независимо от семейного положения. Такая вот сексуальная революция последней трети XVII века в отдельно взятом королевстве.
Но имеются оттенки. Мистер Фрэнк — это идеалист, лирик, как все лирики, несколько квелый (или так его играет А. Толшин). Мистер Спаркиш — сангвиник, как бы живая иллюстрация к известному положению Маяковского: «тот, кто постоянно весел, тот, конечно, просто глуп». Другие джентльмены все время над ним издеваются, но С. Кузнецов сообщил своему самодовольному персонажу столько обаяния, что глупость его выглядит какой-то милой младенческой хитростью. Флегматический сэр Джеспер Фиджет, сыгранный Б. Улитиным, — образ, исполненный грациозно-нелепого английского юмора, его прямая персонификация.
И есть еще главный теоретик и практик сексуальной революции — мистер Хорнер. Статный силуэт А. Вахи, подчеркнутый роскошными и неоднократно сменяющимися костюмами (последняя работа О. Саваренской), — сама воплощенная тема «про это», прочитываемая нами из любого угла зала, еще до первых слов. Слова А. Ваха произносит с несколько «высоцким» раскатом согласных, что еще более усиливает маскулинное начало. Перед нами настоящий, как говорилось в далеком детстве, «сперматозавр», не лишенный, впрочем, самоиронии и временами очень смешной. В тексте, доставшемся актеру, есть трудные куски — патетические, когда герой, израсходовав на местных требовательных дам весь свой ресурс, рвется прочь из Лондона. На волю, в пампасы!.. или куда там?.. Эти места звучат у А. Вахи довольно декларативно, но если бы в тот миг он взглянул на себя в зеркало, то узнал бы в отражении британского героя времен позднейших. Просто — вылитый Байрон, кидающийся освобождать греков! Сходство изумительное, драгоценное, — но требующее от исполнителя подтверждений психологических.
От В. Сухорукова — по пьесе монастырского знахаря — нельзя оторвать глаз. Категорически нельзя — потому что там все существенно, все наполнено, все подробно прочувствовано и стилистически совершенно.
Замечателен Е. Баранов, играющий в своей комической роли ревнивого мистера Пинчуайфа трагическую невоплотимость семейной утопии.
И — Маджери, его «деревенская жена». Вот она и есть тот зеленый вьюнок, который никак не поддается садовым ножницам. Драматург Уильям Уичерли показал здесь то, что на языке философских категорий именуется «естественный человек». То, между прочим, что было важным предметом размышлений его современника и тоже оксфордского выпускника Джона Локка. То, что дальше станет центральной темой искусства не менее чем на полтора столетия — и для просветителей, и для романтиков.
Чтобы играть естество, надо им обладать, иначе не выйдет. Душевная природа Натальи Ткаченко сильная и настоящая. Это было видно еще в гольдониевских «Влюбленных», но там ее своенравная героиня была все время высвечена золотым итальянским солнцем. А здесь — бледный грим, какие-то немыслимые тряпки, которые на нее набрасывают, тесноватый мальчиковый костюм. Иногда — дура дурой. И только световое излучение глаз непрерывно. Как у Наташи Ростовой, которая, помним, «не удостаивала быть умной» и несла порой ахинею, что, мол, не замуж хочет, «а так».
Ольга Скорочкина
Кому-то здесь слышатся отзвуки прежних спектаклей Казаковой — недавнего Гольдони и давнего уже Шекспира. Правильно слышатся: эти стремительные, упругие, взвихренные мизансцены, это волшебное покрывало чудесных метаморфоз, истинно театральных преображений, эти сияющие переливы света, цвета, эти легкие «уколы» драматизма посреди безмятежно комических сцен, эта внутренняя музыкальность и непобедимая витальность — все это давно и надежно стало фирменным знаком режиссера Казаковой. И почему она должна отказываться от явных своих и блистательных козырей?.. Актеры играют ансамблево, у них не только музыкальное, но и отменно «жанровое» чутье. Общий пленительный рисунок и музыкальный гул, искусно срежиссированная атмосфера праздника, карнавала, обольстительно-живописная чувственность театральной материи дают возможность артистам ощущать себя легкими, воздушными, прекрасными и, кроме того, страхуют тех, чья личная «клавиша» временами западает.
Но, кроме собственно казаковских реминисценций, мне совершенно явственно видятся совсем другие ТЕНИ. Тень легендарного акимовского театра гуляет в кулисах этого спектакля. Это, разумеется, совершенно нечаянная радость: Казакова никогда не стояла под флагами традиций. Но ведь невозможно не заметить, как эстетика акимовского театра с ее ставкой на живопись, с повышенным градусом театральности, формальной отточенностью и просто праздничным присутствием большого числа красивых женщин и мужчин на сцене обретает в «Деревенской жене» родную почву. Артур Ваха выглядит просто наследником по прямой блистательного Геннадия Воропаева в «Дон Жуане»…
Ах, какие эффектные эскизы сделал он для постановки «Деревенской жены»! Нарядные. Щедрые на детали, которых в шести листах столько, что хватило бы на шестьдесят. Обильные до избыточности. Такие, словно хотел демонстративно опровергнуть свою репутацию сценографического аскета. И успешно опроверг, виртуозно прикинувшись декоратором-пассеистом. Стилизатором в духе стилизаторов «Мира искусства», глядевших сквозь анфиладу веков: поэтическая дымка прошлого, охваченная графической рамкой или сценическим порталом, облагораживала все, что попадалось на глаза.
Конечно, спустя век прозрачность и богатство акварельных оттенков сменились жесткой компьютерной графикой (в этой технике сделаны эскизы Орлова). Но в самой жесткости, почти олеографичности цвета чудится некая игра в наивность. Ирония. Которая вполне пристала комедии с фривольным сюжетом, запутанной интригой и забавными характерами. Истории о ревнивце и его жене — деревенской простушке, чья простота оказалась похлеще любого воровства.
Время действия этого зрелища — «где-то около конца» XVII века: историческая точность давно никому не нужна, а «вообще прошлое» развязывает руки и позволяет «сделать нам красиво». Сценографический — полукруглый и кружащийся — занавес «Господина Фрейда» словно распался, раздробился на плоские планы традиционной декорации. На многочисленные завесы и занавесы «Деревенской жены». Кудрявые французские шторы и плавные ламбрекены повисли параллельно рампе. В их витиеватости просвечивал мелочный декор XVII века, обилие извивов уравновешивалось прямоугольниками ширм.
Английская пьеса «Деревенская жена»… Выделение курсивом подсказало еще один пластический мотив: живые изгороди и регулярные парки, где растениям придана геометрическая форма и своей правильностью они напоминают хорошо подстриженного пуделя. А также могут служить декорацией. Боскетный театр, известный нам более всего по картинам Сомова. В «Деревенской жене» — это помещенная в глубине стена искусственной зелени, действительно стена с нишами, проемами и окнами. Ее театральное происхождение обнаружится, когда в одном из окон появятся музыканты, а сквозь нити зелени призывно загорятся огни театра. В декорации Орлова скрыт эффект, подобный тому, что дает сцена на сцене: «двойная театральность», таящаяся в боскетной стене и многочисленных занавесах. Потому-то вспоминаются мирискусники, строившие композицию «как на подмостках», а Бенуа и впрямь писал, расставляя в макете фигурки в костюмах прошлых веков.
В целом декорация Орлова представляет собой систему разнообразных завес, дробящих пространство на множество укромных уголков, что в итоге наделяет среду качеством ДВУСМЫСЛЕННОСТИ. Здесь чудится шепот влюбленных. Тайные встречи. Выглядывающие полуфигуры. Блеск глаз в прорезях маски. Мелькнувший в портшезе женский силуэт. Сладко, таинственно и манко. Всюду разлита возбуждающая атмосфера ночных приключений. Полузапретных эротических игр. Пропорции чувственности и игривости, когда чувство не превращается в отягощающую страсть, а игра остается всего лишь игрой, продиктовали ритмы этого пространства, где во тьме зеленого массива растворяются крадущиеся тени, а тяжкое горенье красного бархата притушено графикой мелких драпировок.
Но в спектакле все оказывается приземленнее и проще: исчезли нюансы, а затем последовательно оказались ненужными загадочный свет фонарей и портшез, таинственная сень с шепотом мелкой листвы и пьянящая глубина пространства. Действие выкатилось на авансцену и персонажи, нимало не озаботясь возможностями укромных уголков, расположились поближе к рампе, где самое видное место занял главный «обольститель» — мистер Хорнер — Артур Ваха. Внешне и внутренне неподвижный. Самодостаточный. В чью способность к любовной интриге можно поверить лишь весьма-весьма условно. Заявленная в эскизах внутренняя глубина в реальности сцены обернулась картонной картинкой. Дело здесь не в художнике. Тогда в чем? Как? Почему?
ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ?
Сцена из спектакля.
Фото В. Урванцева
Комедия Уичерли о том, что нет сил и способов противостоять стихии любви-игры: она обволакивает, кружит голову и обводит вокруг пальца всех. От ее сетей не спастись ни ревнивому супругу, ни жениху, из соображений светскости подталкивающему невесту в объятия любовника. Ей подвластны деревенская простушка и юная леди, твердо придерживающаяся понятий о чести. «Диапазон эротизма» в пьесе достаточно широк: в ней есть ситуации, предвосхищающие фарсовые положения «Великодушного рогоносца». Ревнивец заставляет жену показывать, как она целовалась с соперником, чтобы определить, до какой степени она в него, соперника, влюблена. А незнакомый с чувством ревности Спаркиш добровольно отводит невесту… правда, не к тому, к кому надо.
Но есть и другое. Подмены, подлоги и уловки образуют такую путаницу, сплетаются в такое кружево, что сама ткань действия обретает паутинную легкость. Невесомую пену любви. И эта атмосфера, по-видимому, пленила постановщиков.
Насыщенные краски фарса, комизм положений Казаковой и ее актерам не близки. Лучшее, что есть в созданных ею спектаклях, это внутренняя музыкальность действия, когда звуки словно падают чисто и звонко, как весенняя капель, а затем истаивают, подобно облачку-сновидению. Прозрачность интонаций, чувств, всего строя произведения… Потому-то давно хочется увидеть поставленные Казаковой «Сон в летнюю ночь» или «Бесплодные усилия любви».
Мотыльковая амурная энергия временами действительно возникает в «Деревенской жене». Причем там, где… не ждешь. Сочные комедийные ситуации сыграны будто бы вскользь, без акцентов и ударений. Так работает Евгений Баранов (Пинчуайф), проводя наиболее фарсовые сцены легко и без всякого нажима. Тяжкая ревность его героя обозначена… акварельным мазком. Мрачная сосредоточенность сыграна словно в шутку, невсерьез, от чего возникает особый, нежный комизм, словно вплавленный в ткань актерского существования. Разлитый, растворенный внутри роли. В том же ключе существуют женские персонажи: бесхитростная, любопытная и кокетливая Маджери — Н. Ткаченко; чистая, как Психея, Алитея — А. Флоринская. Выше всего ценя юность и естественность, XVIII век имитировал их розовым румянцем пасторалей с затянутыми в корсет пастушками. Но в Маджери казаковского спектакля присутствует настоящая естественность: неяркая и потому — соблазнительная. Алитея Флоринской защищает свою честь… ненастойчиво — и поэтому… правдоподобно.
Воздушность существования. Чуть заметная ироничность. Колеблемая легким ветерком импровизации материя действия, мастером плетения которой является Т. Казакова. Кажется, вот-вот все оживет, закружится карусель и затрепещет душа спектакля. Но нет. Вновь потянутся на авансцену персонажи. Раздадутся репризные реплики-остроты. Полет действия сменится отчетом о событиях, в которых к финалу исполнители запутаются так же, как их герои: скорее бы развязаться с этими письмами, любовниками и особенно со сценой маскарада, в силу какого-то дьявольского противоречия ставшей верхом внутренней неподвижности. Одноплановость чередуется с внезапно возникающей и так же внезапно исчезающей глубиной. Но преобладает первое, и перед глазами возникает картинка: актер + текст + костюм. Именно костюм делает необоримым желание оглянуться назад, в прошлое.
РЕТРОРЕКВИЕМ
Праздничная «Деревенская жена» в Театре комедии (наряду с суровой «Софьей Петровной» в новосибирском «Глобусе») стала последним спектаклем художницы по костюмам О. Саваренской*.
*Костюмы доводились уже после смерти художницы силами театра.
В памяти всплывает давний, почти четвертьвековой давности «Мизантроп» на той же сцене. Один из первых запомнившихся спектаклей Саваренской. Вот уж где «сыпалось золото с кружев»! Дрожали многочисленные оборки на рукавах Селимены, и юбки эффектно мели золотую клетку декорации (художником-постановщиком был И. Иванов). Пышные до чрезмерности (за что Саваренской досталось) костюмы. Видя ее сегодняшние работы, сознаешь, как отточила она некогда бившую через край энергию молодости. Дисциплинировала желание «сделать красиво». Насколько изощреннее, тоньше и продуманнее костюмы «Деревенской жены». Ироничнее. Остроумнее. Излюбленное художницей сочетание современных деталей и исторических форм. Идущие сквозь века рифмовки, придающие костюму пикантность и работающие на актера.
Топ Алитеи в сочетании с широкой старинной юбкой.
Вновь модные сегодня широкие отвороты 1970-х в костюмах светских дам, являющихся единым строем в униформе бойцов любви — одинаковых нарядах, разнящихся лишь цветом отделки.
Черезчур пышное, с переливами жабо Спаркиша, которым он, пыжась, потряхивает, мгновенно делаясь похожим на самодовольного, но безвредного петуха.
Фата длины столь безмерной, что служанка, стремясь поспеть за госпожой, обматывает белую ткань вокруг себя крест-накрест наподобие деревенской косынки.
Как любила художница эти придумки для актеров, найденные вместе с режиссером. Как восхищалась постановщиком Орловым. И тут…
…ТЕНЬ «ГОСПОДИНА ФРЕЙДА»…
…сколько ее ни отгоняй, вмешивается в происходящее и решительно отказывается покинуть сцену.
Постановка пьесы Шницлера была одной из наиболее любимых Саваренской. Она работала упоенно и старательно: запомнилось заранее пересчитанное художницей число крючков на корсаже и указанная в миллиметрах ширина кружев на панталонах. Но главное — не количество крючков и оборок, а драматургия костюма, когда все его перемены, раздевания и переодевания становились неотъемлемой частью актерского образа. Вплетались в психологическую атмосферу. Участвовали в ее переливах, и сладость любовных соблазнов соседствовала с иронией, горьковатой, как вкус миндаля. А все это подхватывалось, подгонялось полетом и круженьем прозрачного занавеса.
Костюм в «Господине Фрейде» играл. В то время как в «Деревенской жене» актеры НЕСУТ НА СЕБЕ НАРЯДЫ, а их перемены свидетельствуют преимущественно о материальных затратах на постановку. Но искусству Казаковой не свойственна завершенность очертаний и жесткость почерка. Ей безразлична — и более того — противопоказана победительная наглость шоу. Режиссер не ставит точек над «i», предпочитая размытый мазок, позволяющий ощутить дыхание материала. Легкое. Импровизационное. Когда в мерцании смыслов возникает чарующее жемчужное облако, где прозрачна тень печали, а тут и там разбросаны блестки юмора.
Порой это жемчужное свечение посещает пространство «Деревенской жены», но когда оно гаснет, испытываешь чувство утраты. Ибо все было приготовлено к пиру. Но что-то разладилось: не пришли самые дорогие гости. Их места за столом заняли случайные люди. Музыкантам не доплатили, и они перестали играть, и поиск виноватых не заменит не состоявшейся праздничной встречи.
Июнь 2000 г.
Леонид Дубшан
Сцена из спектакля.
Фото В. Урванцева
Зеленый плющ, заключенный в строгую стереометрию боскета, хотел бы виться привольно. Сценография Александра Орлова, великолепная визуально, еще и чрезвычайно семиотична: природа и цивилизация, чувство и разум, страсть и мораль, сентиментализм и классицизм… — верная пластическая формула, выведенная художником, позволяет подставлять множество частных значений. Деревня и город, наконец, потому что жена-то — деревенская, а происходит дело — в Лондоне.
Это Лондон 1670-х, диктатура Кромвеля с ее пуританской идеологической хмурью недавно пала, и все как с цепи сорвались. Передовая молодежь спешит осуществлять пришедшую свободу, понимая ее, в первую очередь, как свободу любить. Наиболее радикальные элементы трактуют ее как свободу трахаться с кем попало, независимо от семейного положения. Такая вот сексуальная революция последней трети XVII века в отдельно взятом королевстве.
Но имеются оттенки. Мистер Фрэнк — это идеалист, лирик, как все лирики, несколько квелый (или так его играет А. Толшин). Мистер Спаркиш — сангвиник, как бы живая иллюстрация к известному положению Маяковского: «тот, кто постоянно весел, тот, конечно, просто глуп». Другие джентльмены все время над ним издеваются, но С. Кузнецов сообщил своему самодовольному персонажу столько обаяния, что глупость его выглядит какой-то милой младенческой хитростью. Флегматический сэр Джеспер Фиджет, сыгранный Б. Улитиным, — образ, исполненный грациозно-нелепого английского юмора, его прямая персонификация.
И есть еще главный теоретик и практик сексуальной революции — мистер Хорнер. Статный силуэт А. Вахи, подчеркнутый роскошными и неоднократно сменяющимися костюмами (последняя работа О. Саваренской), — сама воплощенная тема «про это», прочитываемая нами из любого угла зала, еще до первых слов. Слова А. Ваха произносит с несколько «высоцким» раскатом согласных, что еще более усиливает маскулинное начало. Перед нами настоящий, как говорилось в далеком детстве, «сперматозавр», не лишенный, впрочем, самоиронии и временами очень смешной. В тексте, доставшемся актеру, есть трудные куски — патетические, когда герой, израсходовав на местных требовательных дам весь свой ресурс, рвется прочь из Лондона. На волю, в пампасы!.. или куда там?.. Эти места звучат у А. Вахи довольно декларативно, но если бы в тот миг он взглянул на себя в зеркало, то узнал бы в отражении британского героя времен позднейших. Просто — вылитый Байрон, кидающийся освобождать греков! Сходство изумительное, драгоценное, — но требующее от исполнителя подтверждений психологических.
От В. Сухорукова — по пьесе монастырского знахаря — нельзя оторвать глаз. Категорически нельзя — потому что там все существенно, все наполнено, все подробно прочувствовано и стилистически совершенно.
Замечателен Е. Баранов, играющий в своей комической роли ревнивого мистера Пинчуайфа трагическую невоплотимость семейной утопии.
И — Маджери, его «деревенская жена». Вот она и есть тот зеленый вьюнок, который никак не поддается садовым ножницам. Драматург Уильям Уичерли показал здесь то, что на языке философских категорий именуется «естественный человек». То, между прочим, что было важным предметом размышлений его современника и тоже оксфордского выпускника Джона Локка. То, что дальше станет центральной темой искусства не менее чем на полтора столетия — и для просветителей, и для романтиков.
Чтобы играть естество, надо им обладать, иначе не выйдет. Душевная природа Натальи Ткаченко сильная и настоящая. Это было видно еще в гольдониевских «Влюбленных», но там ее своенравная героиня была все время высвечена золотым итальянским солнцем. А здесь — бледный грим, какие-то немыслимые тряпки, которые на нее набрасывают, тесноватый мальчиковый костюм. Иногда — дура дурой. И только световое излучение глаз непрерывно. Как у Наташи Ростовой, которая, помним, «не удостаивала быть умной» и несла порой ахинею, что, мол, не замуж хочет, «а так».
Ольга Скорочкина
Кому-то здесь слышатся отзвуки прежних спектаклей Казаковой — недавнего Гольдони и давнего уже Шекспира. Правильно слышатся: эти стремительные, упругие, взвихренные мизансцены, это волшебное покрывало чудесных метаморфоз, истинно театральных преображений, эти сияющие переливы света, цвета, эти легкие «уколы» драматизма посреди безмятежно комических сцен, эта внутренняя музыкальность и непобедимая витальность — все это давно и надежно стало фирменным знаком режиссера Казаковой. И почему она должна отказываться от явных своих и блистательных козырей?.. Актеры играют ансамблево, у них не только музыкальное, но и отменно «жанровое» чутье. Общий пленительный рисунок и музыкальный гул, искусно срежиссированная атмосфера праздника, карнавала, обольстительно-живописная чувственность театральной материи дают возможность артистам ощущать себя легкими, воздушными, прекрасными и, кроме того, страхуют тех, чья личная «клавиша» временами западает.
Но, кроме собственно казаковских реминисценций, мне совершенно явственно видятся совсем другие ТЕНИ. Тень легендарного акимовского театра гуляет в кулисах этого спектакля. Это, разумеется, совершенно нечаянная радость: Казакова никогда не стояла под флагами традиций. Но ведь невозможно не заметить, как эстетика акимовского театра с ее ставкой на живопись, с повышенным градусом театральности, формальной отточенностью и просто праздничным присутствием большого числа красивых женщин и мужчин на сцене обретает в «Деревенской жене» родную почву. Артур Ваха выглядит просто наследником по прямой блистательного Геннадия Воропаева в «Дон Жуане»…
Вернуться к списку новостей