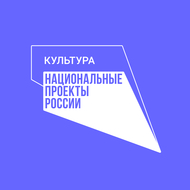Лаврова А. С теми, кто любит // Страстной бульвар,10. 2012. .№10.
Все фотографии ()
Сегодня особенно, да и раньше вынесение определенного жанра в название театра не становилось диктатом в репертуарной политике, указывая лишь общее направление и предпочтения.
Однако Театр Комедии своему определению следовал четко. На гастролях в Москве это не очень бросалось в глаза, а вот в Петербурге чувствуется вполне определенно. В день спектакля, подойдя к билетной кассе, я застала группу сомневающихся товарищей, пристально изучавших афишу. Рассматривая название «Такого не бывает», они осторожно рассуждали: стоит ли идти на «почти невероятную историю» — название незнакомое, драматург современный, а главное — не комедия. Но билеты все-таки купили. И в зале — который, кстати, был полон, — по поведению зрителей ощущалось: напряжены, не привыкли, не знают, как реагировать.
И все-таки, выбрав довольно печальную историю с отсутствием хеппи-энда, придуманную Еленой Ерпылевой, Театр Комедии поставил комедию. Непривычную — но смешную. Зрители постепенно расслаблялись и начинали смеяться, а напряжение от удивления сменилось напряженным вниманием к происходящему на сцене. И умудрился-таки театр, сохранив верность жанру и публике, не слукавить, не пойти против драматургии, а зрителей склонить к лирическому размышлению. Лирический момент в спектакле вообще усилен — недаром название пьесы «Черепаший бунт» поменяли на более нежное, почти сказочное «Такого не бывает».
Елена Ерпылева — из города Когалыма. Это надо понять. Ханты-Мансийский округ, Тюменская область, около 60 тыс. жителей. 36 лет назад здесь возник поселок, городом признан 25 лет назад. Там был мэром какое-то время Сергей Собянин. Это нефтяное место — люди сюда ехали прежде всего за деньгами, а не за романтикой, в переводе с хантыйского Когалым означает то ли «топь», «гиблое место», то ли «начало». Театра здесь не было, пока журналистка Елена Ерпылева не решила почему-то, что она хочет писать пьесы. И начала их писать. И чтобы было, где их ставить, создала свой театр «Мираж». Мираж и есть. Не в пустыне, правда, а в топи… Город, надо отдать ему должное, Елену поддержал — а чего не поддержать, если в городе много молодежи, которая не может же только нефть добывать. Елена ездила на драматургические лаборатории в Любимовку и Щелыково, но пьес своих долго не читала. Лет пять назад в Омске выиграла конкурс на лаборатории драматургов Сибири и Дальнего Востока с пьесой «До последнего мужчины» — пьесу поставили в Омской драме и в театре Нижневартовска. Помню восторг Елены, вышедшей на профессиональную сцену. Тогда же драматургия Ерпылевой заинтересовала завлита Театра Комедии Марину Быкову, которая была в составе жюри конкурса. Она, в свою очередь, сумела заинтересовать художественного руководителя театра Татьяну Казакову.
Пьесы Елены Ерпылевой, которая пишет также и прозу, подобно многим журналистским пьесам, разговорные — в смысле, что много персонажи говорят, фабула размыта. На первый взгляд, они написаны вполне в духе новой драмы: взят фрагмент жизни, часто низовой. Но тут начинаются существенные различия. И, наверное, неслучайно ее пьесы начали ставить не в маленьких театрах типа Doca, а в театрах крупных, основательных, устойчивых, но, тем не менее, склонных к эксперименту. Отличаются ее пьесы от основного русла новой драмы языком. Ее персонажи говорят как в жизни, но язык их не имеет отношения к стертому новодрамскому воспроизведению общеуравнительного новояза. У Ерпылевой герои говорят по-разному, говорят ярко, в их речи — характеры и даже, не побоюсь этого слова, судьбы. И даже, как ни странно, — не столько фабула, сколько сюжет. В смысле не действие, конечно, которое монологами и диалогами не заменить, а отношения, с их динамичным развитием, мировосприятие героев, философия. Язык становится формообразующим и смыслообразующим каркасом пьес. Кажется поначалу, что это народный язык. Но он такой же народный, как, скажем, у Зощенко, Платонова или Петрушевской. К тому же именно через язык, через говорение героев передается сгущенное понимание абсурда нашенской действительности — и вечно русской, и сугубо сегодняшней.
Писала Елена и пьесы-сказки на основе хантыйского фольклора. Ей близки сказочные мотивы, в ее пьесах присутствует притчевое начало.
«Черепаший бунт» — история, которая начинается простенько, а заканчивается, постепенно усложняясь и запутываясь, почти что апокалиптически. Молодой человек Степа ищет свою черепашку. Правильная жена Степы, Зина, сдала черепашку в зоомагазин — не вынесла мук ревности, ведь Степа любил, похоже, только холоднокровную рептилию. Продавщица Вика вроде и соглашается ему помочь, но хитрит, время тянет — чтобы встретиться со Степой снова. Ведь она одинока, а в нем чувствует родственную душу. Кроме черепахи, Степу интересует следователь Леха, который, возможно, виновен в смерти его друга Саньки. Раздираемый любовью и жаждой мести, герой все больше выпадает из реальной жизни — уходит из дома, бомжует. Жена отправляет его к психологам и экстрасенсу, стремясь вернуть в социум,но они оказываются гораздо более безумными, чем он, существами. Объясняющий все несуразности мистический момент, возникающий к финалу, — Степа считает, что в черепаху вселилась душа его погибшего друга, — как ни странно, воспринимается вполне естественно, потому что не требует от зрителя абсолютной веры: может быть, это и так на самом деле — после того, что произошло с героем, допустимо, кажется, все что угодно. А может быть, и не так — очередное чудачество исстрадавшегося неприкаянного Степы.
Татьяна Казакова находит очень верную, не лобовую форму для рассказа этой действительно почти невероятной истории. Она превращает персонажей в жителей комиксового города, типа Готэма. Вроде бы все в спектакле абсолютно реально, но реальность сгущается и обращается в свою противоположность.
Лаконичная и стильная сценография (художник Стефания Граурогкайте): видеоэкран-задник, на который проецируются названия сцен-главок и графичные остроумные рисунки и который расширяет пространство сцены «в космос»; полки с какими-то волшебными аквариумами и клетками в зоомагазине справа; лестница слева, уходящая в портал, срезанная, создающая эффект искаженного пространства — в кабинете следователя; передвижная лесенка-стремянка, на которую взбирается безумный экстрасенс, устремляясь в небо, и карикатурное кресло для экспериментов над мозгом — в сценах с психологами.
Поначалу Степа, с его любовью к черепахе, несмотря на всю свою странность, воспринимается как единственный человек в мире комиксовых героев или мультяшек (ассоциации услужливо возникают не только с «Бэтманом», но и с «Кроликом Роджером»). Молодой актер Александр Матвеев чрезвычайно симпатичен, внутренне подвижен, пластичен. В его нескладном, несуразном Степе (роговые очки, джинсы, длинный шарф, потертый портфель) есть человеческая теплота, податливость, мягкость, слабость, которая и есть сила. Продавец Вика — Алиса Попова — в бесформенной растянутой кофте, шапочке-гребешке, каких-то приспущенных матерчатых сапогах-чувяках — поначалу какое-то бесполое, безвозрастное существо (недаром и в программке — не продавщица, а именно продавец). Но вот она вихрем завивается вокруг Степы, бегает по диагонали сцены с энергией и размашистостью конкобежца, идущего на рекорд. И при становится видно, что никакое она не существо, а очаровательная юная женщина, одинокая и жаждущая чуда. Как она преображается, облачившись в женский наряд, пусть тоже довольно нелепый(туфли ношеные и не то чтобы на высоком каблуке, шляпка старомодная)! Алиса Попова — актриса реактивная, с гуттаперчивой пластикой и мимикой. Ее лицо ежесекундно преображается, будто маска куклы, которую трансформируют изнутри пальцы кукольника-перчаточника.
Эти двое из разных социальных групп (если о них может идти речь в комиксе), но так похожи друг на друга, как разлученные в детстве брат и сестра, близнецы. Главное — они друг друга чувствуют мгновенно, но Степа слишком занят своим, чтобы сразу обратить внимание на понятое, а Вика ловит на раз: предназначены друг для друга, и если ты дашь ему сейчас уйти — отдашь черепашку, он уйдет навсегда.
Гладенькую, глянцевую куклу Зину — Алиса Полубенцева, — твердящую, как мантру, правильные заученные слова про позитив и открытость космосу, выполняющую бесконечные механические упражнения вроде аэробики, Степа «отключает», будто нажимая на кнопку, как механическую игрушку. Только начинает его пилить — он ей: «Давай радоваться» — и готово.
Следователь Леха — на редкость органично существующий в гротеске Владимир Миронов — тоже существо довольно фантастическое, этакий зловещий и вместе с тем жалкий человек-Пингвин. В нем тупоголовость, деревянность сочетаются с приступами лихорадочной предприимчивости, а то и с вспышками явного безумия. Дыра в голове — черпено-мозговая травма на войне — частичная амнезия, провалы в памяти, борясь с которыми он заучивает заумные цитаты и начинает их долдонить к месту и ни к месту, чтобы скрыть свою ущербность. В которой он, впрочем, сам же всем и сознается. Рубленость речи сменяется медоточивостью, шарнирность движений — неожиданной ладностью. Социальная дезориентированность — прозрением: он в этом мире иной, надо бежать, спасаться, а враг Степа — никакой ему не враг, а такой же преследуемый, брат по несчастью.
Психологи-инопланетяне с вытянутыми лысыми головами — резиновыми шапочками (да это же не лысины — это переразвитые мозги!), заклинающие Степу не думать, вовсе монструозный экстрасенс с париком-патлами в белом халате и голыми ногами — Сергей Русскин — все эти колоритные, но несколько плоские, рисованые персонажи наступают на главного героя, стремясь превратить в своего. И постепенно он становится героем комикса — вплоть до финального прорыва, отказа от жизни в выморочном мире. Но вот парадокс: каждый из них, общаясь с человеком, будто вытягивает из него человеческое и вочеловечивается. Вика хорошеет, как Наташа Ростова, мечтающая полететь. Зина превращается в страдающую отринутую и любящую жену. Леха — в изломанного войной и миром вечного солдата с чеченским синдромом. И даже экстрасенс — в обиженного в детстве мальчика, стремящегося слиться со звездами.
http://www.strast10.ru/node/2386
Однако Театр Комедии своему определению следовал четко. На гастролях в Москве это не очень бросалось в глаза, а вот в Петербурге чувствуется вполне определенно. В день спектакля, подойдя к билетной кассе, я застала группу сомневающихся товарищей, пристально изучавших афишу. Рассматривая название «Такого не бывает», они осторожно рассуждали: стоит ли идти на «почти невероятную историю» — название незнакомое, драматург современный, а главное — не комедия. Но билеты все-таки купили. И в зале — который, кстати, был полон, — по поведению зрителей ощущалось: напряжены, не привыкли, не знают, как реагировать.
И все-таки, выбрав довольно печальную историю с отсутствием хеппи-энда, придуманную Еленой Ерпылевой, Театр Комедии поставил комедию. Непривычную — но смешную. Зрители постепенно расслаблялись и начинали смеяться, а напряжение от удивления сменилось напряженным вниманием к происходящему на сцене. И умудрился-таки театр, сохранив верность жанру и публике, не слукавить, не пойти против драматургии, а зрителей склонить к лирическому размышлению. Лирический момент в спектакле вообще усилен — недаром название пьесы «Черепаший бунт» поменяли на более нежное, почти сказочное «Такого не бывает».
Елена Ерпылева — из города Когалыма. Это надо понять. Ханты-Мансийский округ, Тюменская область, около 60 тыс. жителей. 36 лет назад здесь возник поселок, городом признан 25 лет назад. Там был мэром какое-то время Сергей Собянин. Это нефтяное место — люди сюда ехали прежде всего за деньгами, а не за романтикой, в переводе с хантыйского Когалым означает то ли «топь», «гиблое место», то ли «начало». Театра здесь не было, пока журналистка Елена Ерпылева не решила почему-то, что она хочет писать пьесы. И начала их писать. И чтобы было, где их ставить, создала свой театр «Мираж». Мираж и есть. Не в пустыне, правда, а в топи… Город, надо отдать ему должное, Елену поддержал — а чего не поддержать, если в городе много молодежи, которая не может же только нефть добывать. Елена ездила на драматургические лаборатории в Любимовку и Щелыково, но пьес своих долго не читала. Лет пять назад в Омске выиграла конкурс на лаборатории драматургов Сибири и Дальнего Востока с пьесой «До последнего мужчины» — пьесу поставили в Омской драме и в театре Нижневартовска. Помню восторг Елены, вышедшей на профессиональную сцену. Тогда же драматургия Ерпылевой заинтересовала завлита Театра Комедии Марину Быкову, которая была в составе жюри конкурса. Она, в свою очередь, сумела заинтересовать художественного руководителя театра Татьяну Казакову.
Пьесы Елены Ерпылевой, которая пишет также и прозу, подобно многим журналистским пьесам, разговорные — в смысле, что много персонажи говорят, фабула размыта. На первый взгляд, они написаны вполне в духе новой драмы: взят фрагмент жизни, часто низовой. Но тут начинаются существенные различия. И, наверное, неслучайно ее пьесы начали ставить не в маленьких театрах типа Doca, а в театрах крупных, основательных, устойчивых, но, тем не менее, склонных к эксперименту. Отличаются ее пьесы от основного русла новой драмы языком. Ее персонажи говорят как в жизни, но язык их не имеет отношения к стертому новодрамскому воспроизведению общеуравнительного новояза. У Ерпылевой герои говорят по-разному, говорят ярко, в их речи — характеры и даже, не побоюсь этого слова, судьбы. И даже, как ни странно, — не столько фабула, сколько сюжет. В смысле не действие, конечно, которое монологами и диалогами не заменить, а отношения, с их динамичным развитием, мировосприятие героев, философия. Язык становится формообразующим и смыслообразующим каркасом пьес. Кажется поначалу, что это народный язык. Но он такой же народный, как, скажем, у Зощенко, Платонова или Петрушевской. К тому же именно через язык, через говорение героев передается сгущенное понимание абсурда нашенской действительности — и вечно русской, и сугубо сегодняшней.
Писала Елена и пьесы-сказки на основе хантыйского фольклора. Ей близки сказочные мотивы, в ее пьесах присутствует притчевое начало.
«Черепаший бунт» — история, которая начинается простенько, а заканчивается, постепенно усложняясь и запутываясь, почти что апокалиптически. Молодой человек Степа ищет свою черепашку. Правильная жена Степы, Зина, сдала черепашку в зоомагазин — не вынесла мук ревности, ведь Степа любил, похоже, только холоднокровную рептилию. Продавщица Вика вроде и соглашается ему помочь, но хитрит, время тянет — чтобы встретиться со Степой снова. Ведь она одинока, а в нем чувствует родственную душу. Кроме черепахи, Степу интересует следователь Леха, который, возможно, виновен в смерти его друга Саньки. Раздираемый любовью и жаждой мести, герой все больше выпадает из реальной жизни — уходит из дома, бомжует. Жена отправляет его к психологам и экстрасенсу, стремясь вернуть в социум,но они оказываются гораздо более безумными, чем он, существами. Объясняющий все несуразности мистический момент, возникающий к финалу, — Степа считает, что в черепаху вселилась душа его погибшего друга, — как ни странно, воспринимается вполне естественно, потому что не требует от зрителя абсолютной веры: может быть, это и так на самом деле — после того, что произошло с героем, допустимо, кажется, все что угодно. А может быть, и не так — очередное чудачество исстрадавшегося неприкаянного Степы.
Татьяна Казакова находит очень верную, не лобовую форму для рассказа этой действительно почти невероятной истории. Она превращает персонажей в жителей комиксового города, типа Готэма. Вроде бы все в спектакле абсолютно реально, но реальность сгущается и обращается в свою противоположность.
Лаконичная и стильная сценография (художник Стефания Граурогкайте): видеоэкран-задник, на который проецируются названия сцен-главок и графичные остроумные рисунки и который расширяет пространство сцены «в космос»; полки с какими-то волшебными аквариумами и клетками в зоомагазине справа; лестница слева, уходящая в портал, срезанная, создающая эффект искаженного пространства — в кабинете следователя; передвижная лесенка-стремянка, на которую взбирается безумный экстрасенс, устремляясь в небо, и карикатурное кресло для экспериментов над мозгом — в сценах с психологами.
Поначалу Степа, с его любовью к черепахе, несмотря на всю свою странность, воспринимается как единственный человек в мире комиксовых героев или мультяшек (ассоциации услужливо возникают не только с «Бэтманом», но и с «Кроликом Роджером»). Молодой актер Александр Матвеев чрезвычайно симпатичен, внутренне подвижен, пластичен. В его нескладном, несуразном Степе (роговые очки, джинсы, длинный шарф, потертый портфель) есть человеческая теплота, податливость, мягкость, слабость, которая и есть сила. Продавец Вика — Алиса Попова — в бесформенной растянутой кофте, шапочке-гребешке, каких-то приспущенных матерчатых сапогах-чувяках — поначалу какое-то бесполое, безвозрастное существо (недаром и в программке — не продавщица, а именно продавец). Но вот она вихрем завивается вокруг Степы, бегает по диагонали сцены с энергией и размашистостью конкобежца, идущего на рекорд. И при становится видно, что никакое она не существо, а очаровательная юная женщина, одинокая и жаждущая чуда. Как она преображается, облачившись в женский наряд, пусть тоже довольно нелепый(туфли ношеные и не то чтобы на высоком каблуке, шляпка старомодная)! Алиса Попова — актриса реактивная, с гуттаперчивой пластикой и мимикой. Ее лицо ежесекундно преображается, будто маска куклы, которую трансформируют изнутри пальцы кукольника-перчаточника.
Эти двое из разных социальных групп (если о них может идти речь в комиксе), но так похожи друг на друга, как разлученные в детстве брат и сестра, близнецы. Главное — они друг друга чувствуют мгновенно, но Степа слишком занят своим, чтобы сразу обратить внимание на понятое, а Вика ловит на раз: предназначены друг для друга, и если ты дашь ему сейчас уйти — отдашь черепашку, он уйдет навсегда.
Гладенькую, глянцевую куклу Зину — Алиса Полубенцева, — твердящую, как мантру, правильные заученные слова про позитив и открытость космосу, выполняющую бесконечные механические упражнения вроде аэробики, Степа «отключает», будто нажимая на кнопку, как механическую игрушку. Только начинает его пилить — он ей: «Давай радоваться» — и готово.
Следователь Леха — на редкость органично существующий в гротеске Владимир Миронов — тоже существо довольно фантастическое, этакий зловещий и вместе с тем жалкий человек-Пингвин. В нем тупоголовость, деревянность сочетаются с приступами лихорадочной предприимчивости, а то и с вспышками явного безумия. Дыра в голове — черпено-мозговая травма на войне — частичная амнезия, провалы в памяти, борясь с которыми он заучивает заумные цитаты и начинает их долдонить к месту и ни к месту, чтобы скрыть свою ущербность. В которой он, впрочем, сам же всем и сознается. Рубленость речи сменяется медоточивостью, шарнирность движений — неожиданной ладностью. Социальная дезориентированность — прозрением: он в этом мире иной, надо бежать, спасаться, а враг Степа — никакой ему не враг, а такой же преследуемый, брат по несчастью.
Психологи-инопланетяне с вытянутыми лысыми головами — резиновыми шапочками (да это же не лысины — это переразвитые мозги!), заклинающие Степу не думать, вовсе монструозный экстрасенс с париком-патлами в белом халате и голыми ногами — Сергей Русскин — все эти колоритные, но несколько плоские, рисованые персонажи наступают на главного героя, стремясь превратить в своего. И постепенно он становится героем комикса — вплоть до финального прорыва, отказа от жизни в выморочном мире. Но вот парадокс: каждый из них, общаясь с человеком, будто вытягивает из него человеческое и вочеловечивается. Вика хорошеет, как Наташа Ростова, мечтающая полететь. Зина превращается в страдающую отринутую и любящую жену. Леха — в изломанного войной и миром вечного солдата с чеченским синдромом. И даже экстрасенс — в обиженного в детстве мальчика, стремящегося слиться со звездами.
http://www.strast10.ru/node/2386
Вернуться к списку новостей